Глава IV Рафаэль (1483–1520)
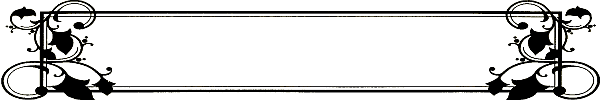
Рафаэль вырос в Умбрии. В школе Перуджино он выделялся среди всех прочих и до такой степени проникся чувствительной манерой мастера, что, по мнению Вазари, картины ученика и учителя неотличимы друг от друга. Быть может, никогда гениальный ученик до такой степени не полнился искусством учителя, как это было с Рафаэлем и Перуджино. Если ангел, написанный Леонардо на «Крещении Иисуса» Вероккьо, тут же бросается вам в глаза как нечто своеобычное, а отроческие работы Микеланджело вообще не с чем сопоставить, то Рафаэля начального периода невозможно обособить от Перуджино. И вот он является во Флоренцию. То было время, когда Микеланджело, отмеченный судьбой человек будущего, осуществив великие деяния своей молодости, стоял на пороге зрелости: он воздвиг «Давида» и работал над «Купающимися солдатами». Тогда же Леонардо, достигший зенита жизни и купавшийся в славе, выполнил свой картон на батальную тему и свершил невиданное прежде чудо «Моны Лизы». Рафаэлю было едва за двадцать. Какая будущность могла его ждать рядом с этими исполинами?
Перуджино высоко ценили на берегах Арно[49]; можно было сказать молодому человеку, что уж со своей-то манерой он публику найдет; можно было его ободрять, говоря, что он способен стать вторым, еще лучшим Перуджино: на большую самостоятельность его картины не претендовали.
Без крупицы флорентийского чувства реальности, однообразный в восприятиях, закосневший в изящной линии, Рафаэль вступил в практически безнадежное состязание с величайшими мастерами. Однако он принес с собой свойственный ему одному талант: талант к восприятию, внутреннюю способность меняться. Рафаэль впервые серьезно доказал это, когда расстался со своим умбрийским школьным багажом и целиком отдался флорентийским задачам. Такое встречается нечасто, а если принять во внимание краткость жизни Рафаэля, придется признать, что никому и никогда не удавалось проделать подобный путь развития за такой малый временной отрезок. Умбрийский мечтатель становится живописцем больших драматических сцен; юноша, отваживавшийся лишь робко коснуться земли, становится мастером, уверенной рукой изображающим людей, ухватывающим явление в его сути; рисовальный стиль Перуджино оборачивается живописным, а односторонний вкус к замершей красоте отступает перед потребностью в мощных объемных движениях. Это уже римский, мужественный мастер.
Рафаэль не обладает чувствительностью и деликатностью Леонардо, еще менее в нем мощи Микеланджело; можно было бы сказать, что ему присуща усредненность, общедоступность, когда бы понятия эти не толковались как пренебрежительная оценка. Это блаженное срединное состояние настолько редко встречается в наше время, что для большинства легче теперь найти дорогу к Микеланджело, чем к открытой, радостной, дружелюбной личности Рафаэля. Однако произведения его и ныне продолжают изливать на нас пленительную любезность характера, которой он главным образом и производил впечатление на своих современников.

49. Филиппино Липпи. Явление Мадонны св. Бернарду. Флоренция. Бадиа
Обсуждать искусство Рафаэля, как уже сказано, невозможно, не поговорив предварительно о Перуджино. Было время, когда человек, желавший прослыть знатоком искусства, скорее всего мог этого достичь, превознося Перуджино[50], однако в наши дни с тою же целью скорее можно советовать как раз противоположное. Нам известно, что он штамповал свои прочувственные головки, как заурядный ремесленник, и мы обегаем их стороной, еще только завидев издалека. Однако стоит хотя бы одну из них воспринять всерьез, как с неизбежностью возникает вопрос: что же это был за человек, успевший добиться от кватроченто этого замечательно углубленного, задушевного взгляда. Джованни Санти знал, что делает, когда помещал Леонардо и Перуджино в своей стихотворной хронике бок о бок: par d’etade e par d’amori [равный по положению и обожанию — ит.]. Кроме того, Перуджино присуща певучесть линии, которой он ни у кого не учился. Он не только куда проще флорентийцев, но и наделен восприимчивостью ко всему упокоенному, гладко текущему, что составляет разительный контраст беспокойной натуре тосканцев и изящной кучерявости стиля позднего кватроченто. Сравним две картины, скажем, «Явление Мадонны св. Бернарду» Филиппино во флорентийской Бадии и разработку того же сюжета Перуджино в Мюнхенской пинакотеке (рис. 49, 50 {6}). На первой линии колышутся, многочисленные изображенные предметы беспорядочно накладываются друг на друга. Во второй — полный покой, ясные умиротворенные линии, благородная архитектура с далеко простирающимся видом, прекрасно звучащая линия гор на горизонте, небо совершенно чистое, и все погружено в столь глубокое безмолвие, что кажется, когда вечернее дуновение тронет листья на тонком деревце, мы услышим их шелест. Перуджино чувствовал настроение пейзажа и настроение архитектуры. Он выстраивает свои простые просторные залы не как рядовое украшение картины, подобно, например, Гирландайо, но как исполненный значения аккорд. Никто до него не воспринимал фигуративную и архитектоническую стороны до такой степени взаимосвязанными (ср. «Мадонну» 1493 г. из Уффици, рис. 51). Он изначально тектоничен. Там, где ему необходимо изобразить несколько фигур, он выстраивает группу согласно геометрической схеме. Правда, Леонардо раскритиковал бы его композицию «Пьета» 1495 г. (Питти) как пустую и вялую, однако во Флоренции того времени она сыграла важную роль. Перуджино с его принципами упрощения и закономерности — важное явление кануна классического искусства: мы видим, как сильно сократил он путь Рафаэлю.

50. Перуджино. Явление Мадонны св. Бернарду. Мюнхен. Старая Пинакотека
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК