Глава I Предыстория
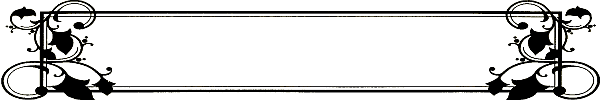
У истоков итальянской живописи стоит Джотто. Это он развязал искусству язык. То, что написано им, наделено даром речи, и его повествования переживаются нами. Джотто осваивает широкие просторы человеческого восприятия, он изображает библейские повествования и легенды о святых, и всякий раз это становится живым, убедительным событием. Эпизод ухватывается им в полном его объеме, и вся сцена преподносится нам с полнотою впечатления от окружающей обстановки — так, как она и должна представляться нашему взору. Джотто перенимает тот исполненный сердечности подход к истолкованию повествований священной истории с наделением их задушевными черточками, который доводилось в те времена встречать у проповедников и поэтов, принадлежавших к направлению св. Франциска. Однако существенная часть вклада Джотто не в поэтической изобретательности, но в художественном изображении, в придании зримого облика тому, что прежде никто не изображал. Его взор был открыт навстречу выразительному в явлении, и, возможно, никогда живопись не расширяла свои выразительные возможности так значительно за один прием, как это произошло при нем. Однако Джотто не следует представлять каким-то христианским романтиком, как бы не выпускающим из рук томик сердечных излияний какого-нибудь францисканского монаха[3], а его искусство — расцветшим от дыхания той великой любви, с которой святой из Ассизи свел небо на землю, а мир превратил в небо. Джотто вовсе не мечтатель, но человек действительности; он не лирик, но наблюдатель: как художник, он никогда не распалял себя до захлестывающей с головой выразительности, но всегда говорил веско и отчетливо.
Что касается глубины восприятия и силы страсти, то здесь Джотто будет превзойден другими. Скульптор Джованни Пизано более душевен в своем капризном материале, чем художник Джотто. Нигде история Благовещения не преподается в духе эпохи с большей нежностью, чем то было сделано Джованни на рельефе кафедры [церкви Сант Андреа] в Пистойе, а в его исполненных страстности сценах нас опаляет горячее дыхание Данте. Однако это-то и было пагубой для Пизано. В своей выразительности он ниспровергает сам себя. Чувственное выражение прямо-таки истребляет телесную сторону, так что здесь искусство обрекается на вырождение.
Джотто спокойнее, холоднее, умереннее. Он неизмеримо популярнее, поскольку понять его в состоянии каждый. Все грубовато-народное ему куда ближе, нежели утонченное. Постоянно сохраняющий серьезность и устремленный на все значительное, он ищет действенность своего искусства в ясности, а не в изяществе линии. В глаза бросается то, что в нем нет и следа мелодичных линейных прорисовок одеяний, ритмически-энергичной поступи и позы, являвшихся элементами стиля того времени. В сопоставлении с Джованни Пизано он тяжеловесен, а с Андреа Пизано, мастером бронзовых дверей Флорентийского баптистерия — просто уродлив. Изображение замерших в объятии женщин и рядом с ними — служанки-провожатой на принадлежащей Андреа «Встрече Марии с Елизаветой» подобно песне, у Джотто же обрисовка чрезвычайно жестка, но притом в высшей степени выразительна. Незабываем абрис его Елизаветы (Падуя, Капелла дель Арена), склонившейся в поклоне и в то же время заглядывающей Марии в глаза; в случае же Андреа Пизано остается лишь воспоминание об изящном волнении и созвучии изогнутых линий.
Высшим достижением искусства Джотто явились росписи Санта Кроче. В части выясненности изображаемого явления он далеко превзошел здесь все, что было им сделано раньше, а если говорить о композиции, он — пусть пока еще в намерении — нацелен на то, что ставит его в один ряд с мастерами XVI в. В этом смысле Джотто не встретил понимания у своих непосредственных продолжателей. Стремясь прежде всего к богатству и разнообразию средств, они вновь отказываются от упрощения и сосредоточенности; картины, по их представлению, должны иметь как можно большую глубину, делаясь при этом смутными и нечеткими в изображении. Но с началом XV в. является новый художник, который мощным толчком снова ставит все на место и фиксирует зримый мир изобразительными средствами — это Мазаччо.
Будучи во Флоренции, не следует упускать возможности посмотреть работы Джотто и Мазаччо — одного вслед за другим, чтобы во всей остроте осознать разницу между ними. Дистанция колоссальная.
То, что сказал Вазари о Мазаччо, отдает тривиальностью: «Он признал, что живопись есть не что иное, как подражание вещам в том виде, как они есть»[4]. Возникает вопрос: почему эти слова в такой же мере не приложимы и к Джотто? Однако в приведенном высказывании заключен глубокий смысл. То, что представляется нам ныне столь естественным, а именно, что живопись должна передавать впечатление от действительности, признавалось не всегда. Было время, когда это требование было совершенно неизвестно уже потому, что всестороннее воспроизведение пространственной действительности на плоскости представлялось заведомо невозможным. Так мыслило все средневековье, довольствовавшееся изображением, никоим образом несопоставимым с натурой и содержавшим лишь указания на предметы и их пространственные соотношения. Совершенно неправильно полагать, что на средневековое изображение когда бы то ни было взирали с нашими представлениями о средствах иллюзорного воздействия. И разумеется, то, что люди начали воспринимать эти ограничения как недостатки и поверили в возможность при помощи совершенно несхожих меж собой средств все же достичь в воздействии изображения чего-то приближающегося к впечатлению от натуры, было одним из величайших достижений человечества. Однако никакому одиночке не под силу осуществить такое преобразование, как не способно на него и одно поколение. Многое совершил здесь Джотто, однако Мазаччо добавил столько, что вполне можно сказать: он первым осуществил прорыв к «подражанию вещам в том виде, как они есть».
Прежде всего он поражает нас окончательным преодолением проблемы пространства. Картина впервые становится сценой, конструируемой с учетом определенной точки зрения, пространством, в котором люди, деревья, дома обретают свое определенное, геометрически исчислимое место. У Джотто всё еще как бы склеено: он изображает голову, возвышающуюся над головой, не давая себе достаточного отчета в том, какое место занимают тела, а архитектура задника лишь придвинута, словно зыбко колышущаяся кулиса, никак реально не соотнесенная по размеру с людьми. Мазаччо же не только изображает вполне возможные, обитаемые дома, но и прорабатывает все пространство картины вплоть до мельчайшей линии пейзажа. Он избирает за точку зрения высоту человеческого роста, так что макушки голов людей, находящихся на ровной сцене, оказываются все на одинаковом уровне — и насколько же основательно воздействие, оказываемое рядом из трех изображенных в профиль голов, замыкаемых четвертой, данной анфас! Шаг за шагом вступаем мы в четко расслаивающуюся глубину пространства, и если кому желательно увидеть новое искусство во всей его славе, пускай он отправится в церковь Санта Мария Новелла и осмотрит фреску «Троица», где — при помощи архитектуры и с использованием взаимных пересечений — созданы четыре обладающих мощнейшим пространственным воздействием по глубине плана. Рядом с ними Джотто выглядит совершенно плоским. Его фрески в церкви Санта Кроче воздействуют как гобелен: гладкая небесная синь связывает образы в ряд, оказывающий плоскостное воздействие. Кажется, сама идея запечатления некоего участка действительности чужда ему: Джотто по возможности равномерно заполняет обрамленную поверхность вплоть до самого верха, словно ее следовало оформить исключительно орнаментально[5]. Все окружено фризами с мозаичными узорами, а поскольку именно эти узоры повторяются на самой картине, фантазия не получает никакого импульса к различению между обрамлением и тем, что в обрамление заключено, так что впечатление плоскостного оформления стены неизбежно оказывается преобладающим. У Мазаччо пространство замыкается непосредственно (рисованными) пилястрами, при этом он пытается создать иллюзию, что картина продолжается и позади них.
Джотто изображает одни только размытые тени, резкие же по большей части совершенно не принимает во внимание. Не то, чтобы он их не замечал: просто углубление в них представлялось ему излишним. Он воспринимал их в изображении как вносящую беспорядок случайность, нисколько не служащую уяснению предмета. У Мазаччо свет и тень становятся моментами первоочередного значения. Для него важно отразить «бытие», телесность во всей силе их естественного воздействия. Решающим моментом оказывается не его ощущение тела и объема, не мощь плеч или плотность толп: он производит совершенно небывалое впечатление, изображая просто голову, наделенную парой весомых формообразующих черт. Объем заявляет у него о себе с небывалой силой. То же касается любого другого образа Мазаччо. Вполне естественной была поэтому замена светлых тонов старинных картин с их призрачными видениями на более «телесный» колорит.
Все изображенное на картине приобретает основательность, и потому прав Вазари, который сказал, что у Мазаччо люди впервые прочно встали на ноги.
Сюда же добавляется и нечто иное, а именно обостренное чувство личностного, индивидуально-особенного. У Джотто фигуры также отличаются друг от друга, однако это лишь общие различия; у Мазаччо же мы видим в них с полной отчетливостью обрисованные характеры. О новой эпохе принято говорить как о столетии «реализма». Правда, слово это побывало в стольких руках, что никакого незамутненного смысла в нем не осталось. К нему пристало нечто пролетарское, отголосок ожесточенной оппозиции, в которой нам навязывается звероподобное уродство, требующее себе прав просто потому, что оно также существует на свете. Однако реализм кватроченто по сути своей радостен. Привнося сюда также и новые моменты, он придает всему повышенную ценность. Теперь внимание привлекают не только характерные лица: до царства достойного изображения возвышается здесь вся полнота индивидуального поведения и движения, художники покоряются воле всякого материала и мирятся с его причудами, испытывая от непокорства линии радость. Возникает впечатление, что прежние формулы красоты совершали насилие над природой; размашистые жесты, богатые модуляции драпировок воспринимаются теперь лишь как красивые фразы, набившие всем оскомину. Возникает настоятельная потребность в действительности, и если вообще мыслимо доказательство чистоты веры в ценность постигнутой заново зримости, его следует усматривать в том, что только здесь даже небесное вполне достоверно подается в земном обличье, наделенным индивидуальными чертами и без какого-либо следа идеальности в том, как это изображено.
Однако художником, в котором новый дух заявил о себе с наибольшей многосторонностью, оказался скульптор, а не живописец. Если Мазаччо умер совсем юным и мог выражать себя на протяжении лишь очень короткого времени, то жизнь Донателло вольготно простирается на всю первую половину XV в., его работы образуют длительные серии, да и вообще, пожалуй, это наиболее значительная личность кватроченто. Он берется за выполнение задач, поставленных эпохой, так энергично, что никто к нему даже не приближается, и в то же время он никогда не впадает в односторонность необузданного реализма. Донателло — творец человеческих образов, который неотступно — до последних бездн уродства — следует за характерной формой, а после вновь — в чистоте и умиротворенности — создает образ спокойной и величавой чарующей красоты. Им созданы образы, до дна исчерпывающие все содержание характерной индивидуальности, а рядом с ними возникает такая фигура, как бронзовый «Давид» (Национальный музей, Флоренция] (рис. 2), где свойственное высокому Возрождению чувство прекрасного уже заявляет о себе полным и чистым голосом. И всегда он — рассказчик, непревзойденный по живости и силе драматического эффекта. Такая композиция, как рельеф «Пир Ирода» в Сиене, [Баптистерий] вполне может быть названа лучшим повествованием столетия. Позже, в сценах чудес св. Антония [в церкви Сант Антонио] в Падуе, вводя в композицию возбужденную толпу, которая выглядит замечательным анахронизмом на фоне выстроенных невозмутимыми рядами групп окружения с картин его современников, Донателло берется за разрешение проблем уже самого чинквеченто.
Парой Донателло во второй половине кватроченто является Вероккьо (1435–1488), несравнимый с ним по масштабу индивидуальности, однако вполне отчетливо выражающий новые идеалы нового поколения.
Начиная с середины столетия ощущается растущая тяга к изящному, тонкому, элегантному. Фигуры расстаются с грубоватостью, становятся стройнее, обретают тонкие члены. Мощная и простая линия растворяется в мелком, куда более изящном ее ведении. Точная передача светотени ласкает глаз. Поверхность воспринимается со всеми своими мельчайшими выступами и выемками. Вместо спокойного и законченного взгляд направляется на подвижное, напряженное, кисти рук раскрываются с сознательной грацией, мы видим многообразные повороты и наклоны голов, много улыбок и обращенных вверх проникновенных взглядов. Получает распространение изысканность, и рядом с ней прежняя естественность восприятия не всегда способна сохранить за собой место.
Противоположность эта ясно выявляется уже при сравнении бронзового «Давида» Вероккьо [Национальный музей, Флоренция] (рис. 3) с такой же статуей Донателло. Из крепкого юноши Давид превратился в мальчика с изящными руками и ногами, совсем еще тощего, так что просматриваются многие детали фигуры, с острым локтем, который, как и вся упертая в бок рука, совершенно сознательно использован в основном силуэте[6]. Во всех членах заметно напряжение: отставленная нога, распрямленное колено, застывшая рука с мечом — как сильно все это контрастирует со спокойствием, которым веет от фигуры Донателло. Вся композиция рассчитана на впечатление от движения. Но динамика требуется теперь и от выражения лица: по лицу молодого победителя проскальзывает усмешка. Нацеленный на изящество вкус находит удовлетворение в деталировке вооружения, плавно подхватывающего линии тела и их прерывающего, а если рассматривать лепку обнаженного тела, работающий обобщенно Донателло представляется едва ли не бессодержательным в сравнении с богатством форм у Вероккьо.

2. Донателло. Давид. Флоренция. Национальный музей

3. Вероккьо. Давид. Флоренция. Национальный музей
Ту же картину мы обнаруживаем при сравнении двух конных фигур — Гаттамелаты в Падуе и Коллеони в Венеции. У Вероккьо все туго затянуто — как посадка всадника, так и поступь коня. Его Коллеони едет с совершенно застывшими ногами, конь же устремляется вперед, создавая впечатление тяги. То, как держит рука командирский жезл, как повернута голова, отвечает тому же вкусу. Донателло выглядит рядом бесконечно упрощенным и непритязательным. Опять-таки он оставляет большие поверхности лишенными каких-либо разбиений, гладкими, в то время как Вероккьо разбивает их и скрупулезно детализирует. Конская сбруя опять-таки призвана уменьшать поверхности. Как оружие, так и трактовка гривы являют собой чрезвычайно поучительный образец декоративного искусства позднего кватроченто. Что до разработки мускулатуры, то здесь художник пошел так далеко, что в скором времени господствующим стало мнение, что Вероккьо изобразил лошадь с содранной шкурой[7]. Отсюда, разумеется, рукой подать до опасности погрязнуть в мелочах.
Вероккьо более всего прославился работами в бронзе. Как раз тогда художники принялись разрабатывать преимущества, которыми обладает этот материал: основное внимание было направлено на то, чтобы разбить объемы, разъединить фигуры и тонко проработать их силуэт. Бронза красива также с живописной точки зрения, и красоту эту признавали и использовали. В буйном богатстве складок одежд группы «Неверие Фомы» во [флорентийской] Ор Сан Микеле, помимо впечатления от собственно линий, ставка делается уже и на воздействие сверкающих бликов, темных теней и мерцающих отражений.
Но кому запросы нового вкуса оказались в полной мере на руку, так это художникам, работавшим в мраморе. Глаз сделался восприимчив к тончайшей нюансировке. Камень обрабатывают с неслыханной прежде утонченностью. Дезидерио [да Сеттиньяно] высекает свои изысканные фруктовые гирлянды, а бюсты молодых флорентиек его работы представляют нам жизнь ее улыбчивой стороной. Антонио Росселино и отличавшийся несколько большей широтой Бенедетто да Майано соревнуются в богатстве выразительных средств с живописью. Теперь резец в состоянии передать как мяконькое тельце ребенка, так и тонкий головной платочек. А приглядишься попристальнее — увидишь, что конец ткани кое-где приподнят порывом воздуха, так что складки игриво завихрились. Посредством архитектурной и пейзажной перспективы фон рельефа углубляется, и совершенно очевидно, что разработка всех поверхностей принимает в расчет живой эффект дрожаний и мерцаний (рис. 4).

4. Антонио Росселино. Мадонна. Флоренция. Национальный музей
Всюду, где это только возможно, старинные типичные для пластики темы преобразуются в задания на движение. Коленопреклоненный ангел с подсвечником, просто и красиво исполненный Лукой делла Роббиа, теперь уж недостаточен: его заставляют поспешно выдвигаться вперед, в результате чего возникает такая фигура, как ангел с канделябром, изваянный Бенедетто в Сиене (рис. 5, 6). Это просто камеристочка с улыбающимся лицом и резво повернутой головой, которая торопливо приседает в книксене, а изящную ее лодыжку трепеща облекает собранный в множество складок подол. Наивысшее достижение среди таких бегущих фигур — это летящие ангелы: очерченные энергично возмущенными линиями, в своих тонких одеждах они, как может показаться, словно рассекают воздух; выполненные в технике рельефа и прикрепленные к стене, они тем не менее выглядят свободно стоящими фигурами. (Антонио Росселино, гробница кардинала Португальского в Сан Миньято аль Монте [Флоренция] (рис. 45).)

5. Лукка делла Роббиа. Ангел с подсвечником. Флоренция. Собор

6. Бенедетто да Майано. Ангел с подсвечником. Сиена. Церковь св. Доминика
В абсолютно том же направлении, что эта группа скульпторов изящного стиля, движутся и художники второй половины столетия. Разумеется, они дают куда более богатую пищу для выводов о духе эпохи. Это ими обусловлены наши представления о Флоренции времен кватроченто, и когда заговаривают о раннем Возрождении, перед глазами прежде всего возникают Боттичелли и Филиппино, а также праздничные композиции Гирландайо.
Среди непосредственных продолжателей Мазаччо выделяется Фра Филиппо Липпи, учившийся на фресках капеллы Бранкаччи и создавший около середины столетия весьма значительную работу — росписи хора собора в Прато. Величия ему не занимать, а как живописец в собственном смысле слова он стоит совершенно особняком. В станковых работах Филиппо берется за такие предметы, как сумеречная лесная чащоба, которая встретится вновь только у Корреджо, прелестью же колорита своих фресок он превзошел всех флорентийцев столетия. И правда, всякий, видевший апсиду собора в Сполето, где Филиппо в небесном «Короновании Марии» пожелал запечатлеть величественную и чудесную игру цветов, признает, что ничего подобного нет более нигде. При этом, однако, его картины плохо скомпонованы, они страдают пространственной зауженностью и неясностью, а также дробностью, так что приходится сожалеть о том, насколько мало смог он воспользоваться достижениями Мазаччо: следующему поколению предстояло еще многое здесь прояснить. И оно сделало это. Если после посещения Прато перейти к Гирландайо и осмотреть фрески Санта Мария Новелла во Флоренции, приходишь в изумление от их ясного и умиротворяющего воздействия, от того, насколько уверенно, прозрачно и осязаемо выражается у Гирландайо целое. Те же преимущества очевидны и при сопоставлении его с Филиппино или Боттичелли, в жилах которых текла куда менее спокойная кровь.
Боттичелли (1445–1510) был учеником Фра Филиппо, однако заметно это лишь по самым первым его работам. То были два абсолютно различных темперамента: монах с широкой улыбкой и равно благодушным отношением ко всему на свете, и Боттичелли — настойчивый, горячий, всегда внутренне возбужденный, художник, которому мало внятна живописная поверхность, который изъясняется мощными линиями и всякий раз сполна наделяет изображаемые им лица, характером и выражением. Известна его Мадонна с тонким лицом, затворенным наглухо ртом и тяжелым, обеспокоенным выражением глаз: взгляд ее совершенно иной, — это не удовлетворенное подмигивание у Филиппо. Святые у Боттичелли — уж никак не здоровые, благополучные люди: внутренний огонь снедает его Иеронима, берет за живое выражение мечтательности и аскетизма у юного Иоанна. Отношение Боттичелли к Священной истории исполнено серьезности, и серьезность эта все возрастает с годами, пока он вовсе не отказывается от внешней привлекательности. В его красоте присутствует некая сокрушенность, и даже там, где художник улыбается, это выглядит лишь мимолетным просветлением. Как мало радости в танце граций на картине «Весна» (рис. 7), и вообще — что за тела! Идеалом эпохи становится терпкая худоба несформировавшейся фигуры, в движениях начинают отыскивать напряженность и угловатость, а не ублаготворенную плавную линию, во всякой же форме — утонченность и заостренность, но никак не полноту и закругленность. Изображениям покрывающих землю трав и цветочков, тонких тканей и художественных украшений свойственно изящество, граничащее с фантастическим миром. При всем том созерцательная фиксация на частностях Боттичелли вовсе не свойственна. Также и в изображении обнаженного тела ему вскоре прискучивает кропотливая деталировка: посредством укрупненной прорисовки он старается получить упрощенное изображение. То, что Боттичелли был выдающимся рисовальщиком, признавал еще Вазари, невзирая на свою принадлежность к школе Микеланджело. Линия Боттичелли всегда возбуждающа и темпераментна. Есть в ней некоторая беглость. По мастерству изображения торопливого движения рядом с ним просто некого поставить. Даже большие пространственные объемы Боттичелли удается привести в движение, и когда он компонует при этом картину вокруг центра, возникает нечто специфически новое, весьма значительное по своим следствиям. Примером в этой связи могут служить его композиции на тему «Поклонения волхвов».

7. Боттичелли. Три грации. Деталь картины «Весна». Флоренция. Уффици
Следом за Боттичелли обычно называют Филиппино Липпи (1457–1504). Схожая атмосфера связывает две различные индивидуальности, приводя их к сходным результатам. Начать с того, что от отца Филиппино получил импульс колористической одаренности, которым не обладал Боттичелли. Его привлекает поверхность, кожица вещей. С телесным цветом он обращается более чутко, чем кто-либо другой. Волосам он придает мягкость и блеск: то, что для Боттичелли было лишь игрой линий, представляет для Филиппино живописную проблему. Он чрезвычайно изыскан в цвете, особенно в синих и фиолетовых тонах. Его линия более умеренна и волниста: в его ощущении присутствовало, так сказать, нечто женственное. Существуют восхитительные по нежности восприятия и исполнения ранние работы Филиппино. Зачастую он предстает едва ли не чрезмерно размягченным. Иоанн на картине 1486 г. «Мария с четырьмя святыми» (Флоренция, Уффици) — вовсе не суровый проповедник из пустыни, но сентиментальный мечтатель. Доминиканский монах на той же картине не сжимает книгу в руке, но держит ее на кончиках расставленных пальцев, да еще проложив между книгой и рукой кусок ткани, и подвижные тонкие пальцы шевелятся подобно чрезвычайно чувствительным щупальцам. То, что сделалось с Филиппино впоследствии, началу не отвечало. Внутренняя вибрация оборачивается спутанным внешним движением, композиции делаются неспокойными и неясными, и лишь с большим трудом в более поздних фресках в церкви Санта Мария Новелла можно признать того живописца, который смог серьезно и сдержанно завершить после Мазаччо Капеллу [Бранкаччи] у кармелитов. Филиппино бесконечно богат в смысле внешней декоративности, и все то фантастическое, чрезмерное, на которое только намекает Боттичелли, становится у него ярко выраженной особенностью. Он прямо-таки набрасывается на все подвижное, и нередко полнота изображаемого движения производит у него великолепное действие — так, «Вознесение Марии» в церкви Санта Мария сопра Минерва (в Риме) с исступленно мятущимися ангелами представляет собой подлинно праздничную сцену, однако затем он снова становится непокойным и, более того, даже грубым и банальным. В «Мученичестве Филиппа» Филиппино избрал для запечатления момент, когда поднимаемый крест болтается на веревках в воздухе. О карикатурных одеяниях на картине и говорить нечего. Возникает впечатление, что крупный талант оказался здесь загубленным из-за недостатка внутренней дисциплины, и становится понятным, как смогли его превзойти люди с куда более грубой организацией, такие, как Гирландайо. В Санта Мария Новелла, где тот и другой занимают соседние стены, мелочные повествования Филиппино уже очень скоро вызывают в вас чувство пресыщения, в то время как добротный и здравый Гирландайо доставляет зрителям подлинно непреходящее удовольствие.
Гирландайо (1449–1494) никогда не страдал чрезмерной чувствительностью, его дух тяжеловесен, однако открытый и бодрый характер, радость, которую доставляло ему все праздничное и живое, тут же завоевывают нашу симпатию. Он весьма занимателен, и о жизни Флоренции мы узнаем преимущественно от него. К содержательной стороне повествований он относится легкомысленно. На фресках хор церкви Санта Мария Новелла ему следовало пересказать истории жизни Марии и Иоанна Крестителя, и он сделал это, однако тот, кому они не были известны заранее, вряд ли их здесь поймет. Что сотворил Гирландайо с введением Марии во храм! Как настойчиво предлагает он нам следующую сцену: маленькая Мария, по собственному почину всходящая по ступеням храма, священник, наклоняющийся ей навстречу, родители, сопровождающие ребенка взглядами и движением рук. У Гирландайо это просто разряженная школьница, кокетливо, несмотря на торопливый бег, устремляющая взгляд вбок; перерезанный колонной священник едва виден, а родители взирают на происходящее с безразличием посторонних наблюдателей. На обмен кольцами при обручении Мария является с недостойной торопливостью, а встреча ее с Елизаветой — это просто миленькая, однако абсолютно мирская встреча двух дам на прогулке. Гирландайо не видит ничего предосудительного в том, что на фреске, изображающей явление ангела Захарии, само это событие оказывается полностью заглушенным множеством портретных фигур, безучастно присутствующих на переднем плане.
Гирландайо — отобразитель, а не повествователь. Ему доставляет радость объект как таковой. Он изображает чрезвычайно живые лица, однако Вазари заблуждается, когда превозносит его за отображение душевных движений. Ему куда лучше удается спокойное, а не подвижное. Такие темы, как «Избиение младенцев», выходят у Боттичелли куда лучше, чем у Гирландайо. Как правило, он держится упрощенного и спокойного изображения и лишь кое-где воздает должное склонности эпохи к движению — в фигуре торопливо пробегающей служанки или чего-то в том же роде. В его наблюдениях никогда нет задушевности. Хотя во Флоренции того времени чрезвычайно настойчиво занимались моделировкой и анатомией, техникой цвета и световой перспективой, Гирландайо вполне удовлетворяется общедоступными достижениями. Он совсем даже не экспериментатор, не первооткрыватель в области живописи: это художник, получивший усредненное для своего времени образование, и берущийся на его основе за новые способы монументального воздействия. От малого стиля он выводит свое искусство к области больших объемных воздействий. Гирландайо обилен и в то же время ясен, он параден и зачастую даже велик. Во всем искусстве XV в. нет ничего подобного процессии пяти женщин в сцене «Рождения Марии». А предпринятые им поиски в композиции, как, например, выстраивание повествования вокруг центра и разработка угловых фигур, таковы, что непосредственно на них могли базироваться мастера чинквеченто.
При этом, однако, следует воздержаться и от переоценки вклада, сделанного Гирландайо. Его росписи в Санта Мария Новелла были завершены около 1490 г., а тут же вслед за этим Леонардо создал «Тайную вечерю», и, находись она во Флоренции, так чтобы их можно было сравнить, «монументальный» Гирландайо разом предстал бы в высшей степени бедным и ограниченным. «Тайная вечеря» — произведение, куда более величественное по форме, форма и содержание растворяются здесь друг в друге без остатка.
Иногда о Гирландайо безосновательно утверждают, что он обобщил достижения флорентийского кватроченто; на самом деле это в высшей степени относится к Леонардо да Винни (род. 1452). Он чуток в наблюдении частного и величествен в ухватывании общего; он выдающийся рисовальщик, но также и великий живописец. Нет художника, чьи специфические проблемы Леонардо не разработал бы и не двинул дальше, а по глубине и полноте личности он превосходит всех.
Леонардо принято рассматривать в одном ряду с представителями чинквеченто, и потому часто забывают, что был он лишь ненамного моложе Гирландайо и даже старше Филиппино. Леонардо работал в мастерской Вероккьо, где вместе с ним учились Перуджино и Лоренцо ди Креди. Последний был звездой, которая не светит сама, но получает свет от других, его картины производят впечатление прилежных школярских упражнений на заданные темы. Перуджино, напротив, вносит много своего, и роль его во флорентийском искусстве в целом чрезвычайно значительна, о чем еще будет сказано ниже. Воспитанные Вероккьо ученики прославили его школу. Очевидно, то была наиболее разносторонняя во Флоренции мастерская. Синтез живописи и скульптуры был особенно благотворен потому, что именно ваятели были склонны методически взяться за натуру, и опасность оказаться в тупике произвольно-индивидуального стиля была в их случае куда менее значительна. Как можно полагать, между Леонардо и Вероккьо существовало и некое внутреннее родство. От Вазари мы знаем, сколь близко соприкасались между собой их интересы и как много нитей, выпряденных Вероккьо, продолжил Леонардо. И тем на менее, глядя на картины ученика, приходишь в изумление. Когда один только ангел на картине Вероккьо «Крещение Христа» (Флоренция, Академия изящных искусств [ныне — Уффици]) (рис. 155) трогает за живое, словно голос из другого мира, насколько несопоставимой со всеми флорентийскими Мадоннами кватроченто представляется такая картина, как «Мадонна в гроте» [Париж, Лувр] (рис. 8)!
Коленопреклоненная, склоняющаяся вперед Мария изображена не в профиль, но спереди. Правой рукой она обхватывает маленького Иоанна, с истовой молитвой выдвигающегося вперед к Христу, и за его движением следует ее раскрытая и парящая, изображенная в необычном ракурсе, левая рука. Сидящий на земле младенец Христос отвечает благословляющим жестом. Его поддерживает большой прекрасный ангел, также коленопреклоненный. Это единственная фигура, которая смотрит из картины, а указующая правая его рука еще усиливает связь со зрителем: изображенная чисто в профиль, рука эта проста и ясна, как путевой указатель. Вся группа — в причудливом и диком, исполненном таинственности окружении скал, меж которых местами проглядывают пейзаж и свет.

8. Леонардо. Мадонна в гроте. Париж. Лувр

9. Леонардо. Мадонна в гроте. Лондон. Национальная галерея
Все здесь исполнено значительности и новизны. Как сама тема, так и ее формальное исполнение. Как свобода в передаче отдельных движений, так и закономерность групповой разработки. Как исполненное бесконечного изящества оживление формы, так и новый живописный светобаланс, совершенно явно нацеленный на то, чтобы при помощи темного фона придать фигурам мощный пластический заряд и в то же время небывалым образом увлечь фантазию вглубь[8]. В результате при рассмотрении картины издалека возникает впечатление телесной подлинности; очевидно намерение художника закономерно воздействовать на зрителя расположением фигур по треугольнику. В картине имеется композиционный стержень, смысл которого отнюдь не в простой симметрии, наблюдавшейся уже у более ранних художников. Здесь больше свободы и одновременно больше закономерности, единичное схватывается в его существенной связи с целым. Но именно таково искусство чинквеченто. Леонардо отличается этим уже очень рано. В Ватикане хранится принадлежащий ему коленопреклоненный «Св. Иероним со львом». Фигура эта весьма примечательна как разработка мотива движения, и с очень давних пор ее ставят весьма высоко; можно, однако, задаться вопросом, кто, кроме Леонардо, был способен так организовать композицию, чтобы лев воспринимался совместно со святым. Я ни одного такого художника не знаю.

10. Леонардо. Поклонение волхвов. Флоренция. Уффици
Наиболее важным по своим следствиям произведением среди ранних картин Леонардо является подмалевок «Поклонения волхвов» (Уффици) (рис. 10). Работа эта создавалась около 1480 г., она воздействует на зрителя в старинных еще традициях — многообразием деталей. Здесь перед ними представитель кватроченто, радующийся всякому разнообразию, однако то, как он выделяет основное содержание, говорит о новизне восприятия. Боттичелли и Гирландайо также писали «Поклонение волхвов» таким образом, что Мария изображалась сидящей в центре, в окружении людей, однако, как правило, она оказывалась здесь обойденной вниманием. Леонардо — первый, кто оказался в состоянии разработать тему, подчинив ее основному акценту. То, как поставлены по краям в качестве мощных, замыкающих кулис внешние фигуры, также составляет богатый следствиями момент композиции, а противопоставление сгрудившейся толпы и абсолютно свободно и легко сидящей Мадонны заряжено столь энергичным воздействием, что Леонардо — единственный, кого можно считать на него способным. Однако даже если бы от этой работы до нас дошла одна прорисовка Марии, как на ее творца возможно было бы указать только на него одного: такого небывалого изящества исполнены как поза, в которой она восседает, так и сопряжение ее с мальчиком. Другие изображали Марию широко, с расставленными ногами рассевшейся на троне, Леонардо же дает пример изящно и женственно восседающей фигуры со сдвинутыми коленями. Впоследствии эту позу переняли у него все художники, а в высшей степени привлекательный мотив поворота фигуры с отклоняющимся в сторону мальчиком был даже буквально воспроизведен Рафаэлем в «Мадонне ди Фолиньо» (рис. 84).

Деталь картины «Поклонение волхвов»

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК