Театр и игра
Театр и игра
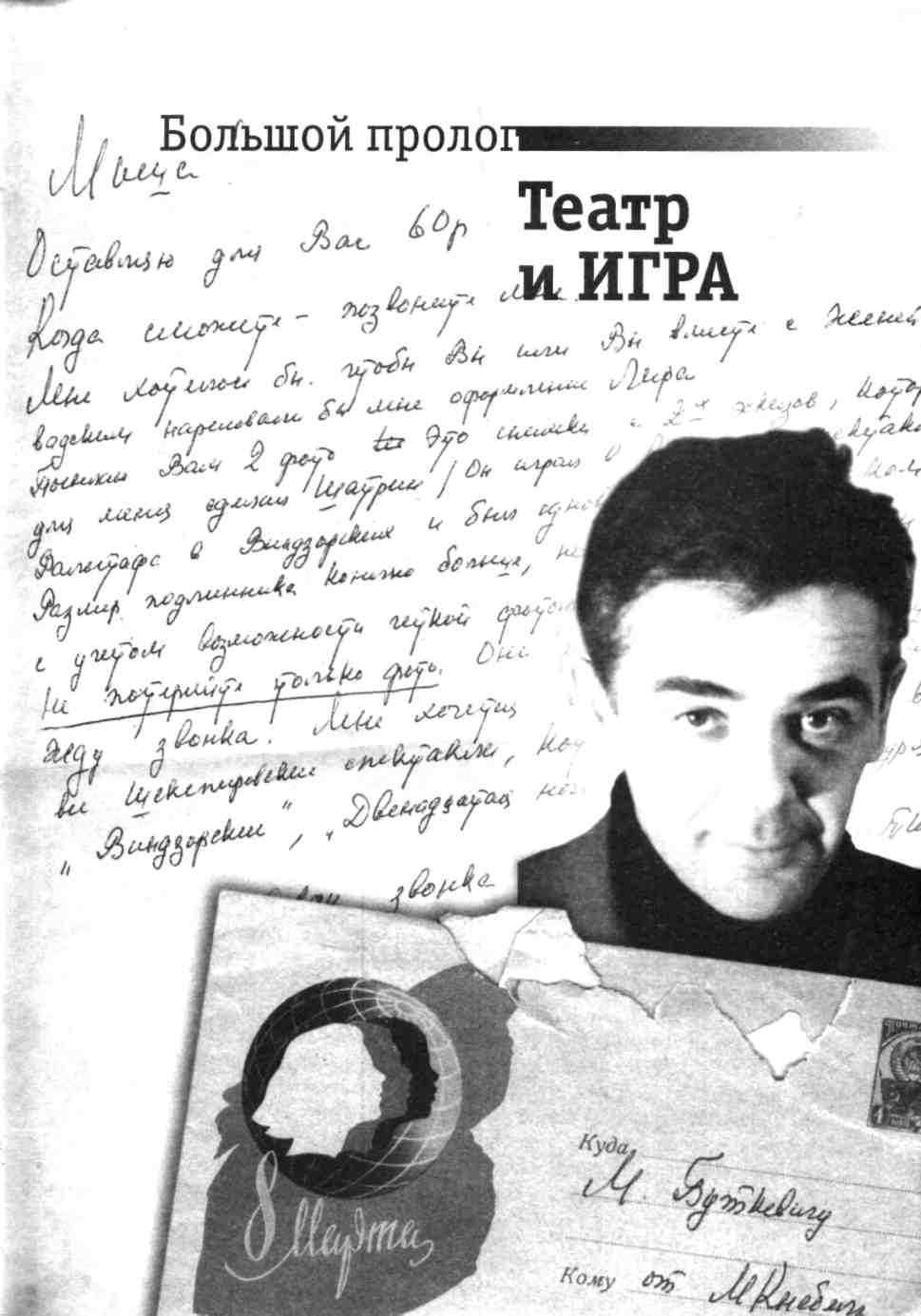
8 июля 1987 года.
Окрошка из Пушкина — в роли эпиграфа: "Твердо уверенный, что устарелые формы нашего театра требуют преобразования... Драматическое искусство родилось на площади — для народного увеселения... С площадей, ярманки (вольность мистерий)... Народ требует сильных ощущений — для него и казни зрелище... Драма стала заведовать страстями и душою человеческою. Смех, жалость и ужас суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим волшебством... Смешение родов комического и трагического — напряжение, изысканность необходимых иногда простых выражений... догадливость, живость воображения, никакого предрассудка, любимой мысли. Свобода... Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная. Дня того, чтобы трагедия могла расставить свои подмостки, надобно было бы переменить и ниспровергнуть обычаи, нравы и понятия целых столетий".
Начинать книгу все равно, что начинать новую жизнь — страшно и радостно. Чистая страница волнует. Она лежит передо мной, крахмально бела и свежа, по ней бегают легкие тени, и не поймешь, то ли это от игры солнечных зайчиков в листве деревьев, шумящих за окном, то ли от беззвучного скольжения образов, готовых проступить сквозь экранную белизну бумаги.
Я пока еще свободен. Я могу написать любую фразу.
Я словно бы стою в центре огромного неведомого мира, и от меня во все стороны расходятся тропинки разнообразных способов начать книгу. Но я не начинаю. Я не тороплюсь написать первую фразу книги, хотя, говоря откровенно, она давно уже сложилась во мне — мысль о веселости как главном качестве актеров. Однако, я медлю, тяну, продлеваю и растягиваю наслаждение собственным самовластием, упиваюсь полнотой своих возможностей. Сказал ведь кто-то, что счастье — лишь предчувствие, предвкушение счастья. Да и не только в этом дело. Подспудно живет во мне какая-то смутная тревога. Мне кажется, что, написав первую фразу, я сразу же в чем-то себя ограничу и тут же потеряю часть своей свободы, во всяком случае — сильно ее урежу. Уже не я буду управлять следующей фразой, а, наоборот, она будет управлять мной: известно ведь, что сказав "а", мне придется говорить "б". Написав свою первую фразу, я как бы окончательно и бесповоротно выберу из всех вышеупомянутых тропинок только одну и с этой минуты буду вынужден идти только по ней, до конца, до самой, так сказать, столбовой дороги; все, что маячило мне на остальных тропинках, останется в стороне, и, быть может, теперь уже навеки: события, которые могли произойти, не произойдут, встречи, которые мерещились мне, не состоятся, образы, ожидавшие меня там, на этих оставленных "тропинках", никогда мне не привидятся, приключения, подстерегавшие меня, случатся с кем-то другим, — будет только то, к чему поведет меня злополучная первая фраза. И тут ничего не поделаешь: делая выбор, мы всегда что-то отсекаем. Если молоды, отсекаем на время, отодвигаем якобы на потом; если же не молоды, как я, например, — отсекаем и отбрасываем навсегда.
Вы легко поймете описанные только что переживания, ибо пишущий и читающий играют в одну игру.
Сейчас это — игра начала, игра первого шага.
Вот вы раскрыли книгу. Вы собираетесь ее прочесть. Не спешите, задержитесь на несколько секунд. Не торопитесь прочесть первую фразу книги. Отстройтесь и подготовьте себя к ней.
Это ведь — как встреча с новым, незнакомым человеком, вещь очень тонкая: вы можете приобрести в нем друга для себя (не дай бог врага! — нет-нет, не пугайтесь, я шучу), а можете, не присмотревшись вовремя, пройти мимо, обеднить себя невольно, по небрежности. Поэтому — растянем событие. Отступим на шаг, прежде чем броситься в объятия.
Задержим удовольствие ожидания.
Как? Ну, хотя бы вспомнив соответствующую традицию большой русской литературы: ее корифеи, почти все, были мастерами начал, они лихо придумывали свои первые фразы.
Прекрасны первые фразы пушкинских шедевров: "Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены на похоронные дроги и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом" (начало "Гробовщика"); "Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался?" (начало "Станционного смотрителя"); "Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова" (ошеломительная по простоте и чреватости первая фраза "Пиковой дамы"). Я уж не говорю о знаменитом "Мой дядя самых честных правил..." Эта фраза, несмотря на свою общенародную известность, и сегодня ставит нас в тупик, если взглянуть на нее, как на начало романа.
А гениальный, завораживающий зачин гоголевской комедии?! "Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор".
А безжалостный, как приговор, афоризм, с которого начинается "Анна Каренина": "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Да, Толстой умел начинать свои книги. Перечтите первые фразы "Детства", "Казаков", "Отца Сергия" и особенно "Воскресения". Как человек театра, я не могу, конечно, не обратить вашего внимания на первые реплики толстовских пьес. "Живой труп": "Можно у вас водицы?" В свете дальнейшей судьбы Феди Протасова эта фраза обретает дополнительную, глубоко символическую окраску — жажды, свежести, вопросительной и вопрошающей Русской Деликатности (можно? у вас? мне?). "Плоды просвещения": "А жаль усов!" — в одном предложении запрессовано все настроение пьесы: снисходительный юмор, хитринка самоиронии, неунывающий лиризм и азарт безвыходности. А мощное, прямо-таки симфоническое начало "Власти тьмы": "Опять кони ушли." Сколько широты, поэзии и вместе с тем сколько тоски и трагической безысходности в этих трех словах, в их короткости, в их порядке, в их песенной протяжности: "О-пять-ко-ни-уш-ли." Начинаешь подозревать, что, вероятно, в ней, именно в этой первой реплике пьесы, нашел Борис Иванович Равенских ключ к поэтике своего знаменитого спектакля.
Любил и умел сочинять свои первые фразы Ф. М. Достоевский. У него они напоминают чем-то драгоценные камни; внутри фразы все время что-то мерцает; там, в прозрачной и призрачной глубине, постоянно играют фантастические, невероятные сочетания: сияния и мрака, добра и жестокости, динамики и неподвижности, прошлого и будущего, вечных истин и самой вульгарной злобы дня. Эта игра противоречий придает вступительным словосочетаниям Достоевского какую-то странность, необычность, служащую сигналом, предупредительным знаком — "Внимание! Вы вступаете в другой, эмоционально непривычный мир!": "Прошлого года, двадцать второго марта, вечером, со мной случилось престранное происшествие" ("Униженные и оскорбленные"); "Не утерпев, я сел записывать эту историю моих первых шагов на жизненном поприще, тогда как мог бы обойтись и без этого" ("Подросток"); "Начиная жизнеописание героя моего Алексея Федоровича Карамазова, нахожусь в некотором недоумении" ("Братья Карамазовы"). Втягивающая и настораживающая сила этих фраз просто поразительна. И еще один пример из Достоевского — первая фраза "Скверного анекдота". Посмотрите, какая сила диалектики, какое взаимопроникновение насмешки и боли, издевки и патриотизма, заблуждения и захватывающего дух пророчества: "Этот скверный анекдот случился именно в то самое время, когда началось с такою неудержимою силою и с таким трогательно-наивным порывом возрождение нашего любезного отечества и стремление всех доблестных сынов к новым судьбам и надеждам".
Несравненным мастером первой фразы был Антон Павлович Чехов. Я возьму примеры из тех его сочинений, которые люблю больше всего, люблю настолько, что начало каждого рассказа, повести или пьесы помню наизусть.
"Моя жизнь (рассказ провинциала)". Тут, правда, не одно предложение, но дыхание этого абзаца настолько цельное и единое, что разорвать его никак невозможно: "Управляющий сказал мне: "Держу вас только из уважения к вашему почтенному батюшке, а то бы вы у меня давно полетели". Я ему ответил: "Вы слишком льстите мне, ваше превосходительство, полагая, что я умею летать". И потом я слышал, как он сказал: "Уберите этого господина, он портит мне нервы".
Начало рассказа "По делам службы": "Исправляющий должность судебного следователя и уездный врач ехали на вскрытие в село Сырню".
Начало знакомого шедевра: "Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой".
Я не буду сейчас приводить удивительное начало "Трех сестер", пьесы, о которой я думал всю свою сознательную режиссерскую жизнь, но которую так и не осмелился поставить, не буду потому, что мне придется говорить о ней слишком много и подробно в дальнейшем на протяжении всей книги; вместо этого напомню вам начало "Чайки". Как странно значительны, почти таинственны — при всей своей тривиальности — две первые ее реплики.
—Отчего вы всегда ходите в черном?
—Это траур по моей жизни.
Гениальны начала А. П. Платонова:
"В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования" ("Котлован").
"Трава опять отросла по набитым фунтовым дорогам гражданской войны, потому что война кончилась" ("Река Потудань").
"Он уехал далеко и надолго, почти безвозвратно" ("Фро").
Первая фраза Платонова органична, — вот-вот она распустится и из нее возникнет целый мир, мир неповторимо платоновский, такой же знакомый и такой же неизвестный, как цветок яблони или вишни.
Но иногда он начинает прямо с шока:
"Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки" ("Сокровенный человек").
"Моя фамилия Дерьменко" ("О том, как потухла лампочка Ильича").
Другой гений русской литературы в советское время, тихий и незаметный Виктор Курочкин, однажды дико обрадовался, придумав начало, которое смерть не дала ему продолжить, начало безотказное, одновременно издевательское и торжественное, смешное, как хороший анекдот, и эпическое, как легенда:
"Братья Бузыкины шли по Невскому".
Ну вот, после движения назад (которое, по мейерхольдовской биомеханике, должно обязательно предшествовать движению вперед — В. Э. Мейерхольд называл это отказом), мне пора броситься в атаку на первую фразу моей книги. Не могу сказать, что после приведенных примеров мне будет легче это сделать.
Русские актеры — люди веселые.
Они все время шутят, острят, ерничают, состязаются в травле анекдотов и рассказывании забавных бытовых историй, высмеивают и разыгрывают друг друга, и смеются, смеются: над собратьями по профессии, над зрителями, над собой; утром перед репетицией, днем после нее, вечером перед спектаклем и ночью после спектакля; за кулисами и на сцене, в буфетах и в клозетах, в поездах по пути на гастроли, в гостиничных номерах, на торжественных собраниях — везде, где собирается больше двух человек. Можно было бы подумать, что они — люди весьма легковесные и легкомысленные, если бы не одна, довольно странная, особенность их повального и подчеркнутого веселья: оно тем больше, чем труднее и хуже им живется.
Самых веселых за всю мою жизнь артистов я встретил, попав однажды из столицы нашей родины в нищий и убогий так называемый городской театр, окончательно, как мне казалось, забытый не только богом, но и управлением театров. Было это в начале 60-х годов, в глухой средне-русской периферии, куда привели меня судьба и командировочное предписание Всероссийского Театрального Общества. Тогда я впервые увидел эту театральную глубинку. Настоящую, неприкрашенную. Жутковатую.
Два, даже не два, а полтора этажа. Выкрашено это снаружи довольно мрачной буро-вишневой краской. Карликовый фронтон с четырьмя облупившимися пилястрами. Между ними — низкая входная дверь прямо в фойе, в котором размещены сразу все зрительские службы: за спиной у входящего, по обе стороны входа две загородки — раздевалки, справа — буфет, слева — туалет.
Деревянные полы были чисто вымыты, от непросохших досок поднималась и стояла в помещении пронизывающая сырость. В каком-то нежилом, холодном воздухе запахи справа и слева причудливо смешивались, причем преобладал нашатырный дух мочи и карболки. Две унылые билетерши привычно зябли в своих синих мундирчиках с пачками недефицитных программок подмышками.
Прозвенел звонок, и я пошел в зрительный зал. Начинался спектакль. В зале человек четырнадцать, на сцене немного больше. Уровень исполнения профессионально-пещерный: зычные, поставленные голоса, картинные позы, иллюстративная жестикуляция, раскрашиваемые слова, — на фоне такого фойе, таких билетерш и таких вот малочисленных и странных зрителей вся эта сценическая мишура выглядела особенно неправдоподобной, невыносимо фальшивой. Как будто нет "Современника", как будто не было никогда Художественного театра. Стало жалко себя, зрителей, но больше всего этих несчастных артистов, бесстыдно и бездарно кривляющихся перед нами.
Невольно вспомнилось, как сегодня после репетиции я знакомился с ними, с этими артистами. В трезвом дневном свете, без ярких огней рампы, без грима, в своих, довольно поношенных собственных костюмах, они были совсем другими. Серые, изможденные и голодные лица, бегающие, настороженные глаза, тонкие нервные пальцы и тощие жилистые шеи женщин, плохо выбритые, с заклеенными порезами, синие щеки мужчин и это знаменитое, невыносимое для нормального человека выражение актерских физиономий — всероссийская, вроде бы независимая и одновременно заискивающая мина извечного Аркашки Счастливцева — у всех, у всех до одного. Сразу представилась их фантастическая повседневность: 45-50, в лучшем случае 70-75 рублей жалованья; угол, в лучшем случае комната у частника — печь, которую зимой надо топить, вода и прочие удобства во дворе; брошенные на весь день дети; эфемерные, легко создаваемые и так же легко распадающиеся семьи; сплетни и мизерно-пародийные интриги; адский труд (средняя норма 28 спектаклей в месяц, не считая репетиций), выездные спектакли, жалкие гастроли по району, поездка раз в год на актерскую биржу в Москву, поездка обычно безрезультатная, так сказать, напрасные хлопоты, ибо большинство из них уже прошло сверху донизу все круги той ужасной человеческой ярмарки.
Привычный юношеский ригоризм (а я, увы, и к тридцати пяти годам не сумел от него избавиться, сохранил — во всей жестокой первозданности), этот ригоризм здесь не срабатывал.
Разве они виноваты? Разве я имею право их осуждать? В чем их вина? Они ведь стараются изо всех сил, ничего не получая взамен. Вернее, ничего, кроме неприятностей. Подумать только: неустроенный, дикий быт кочевника, ежечасная полуживотная борьба за существование, опустошительные для артистической души набеги бездарных режиссеров-временщиков, приезжающих в эту дыру на сезон, а то и на полсезона — зализать раны после очередной склоки или пересидеть какую-нибудь скандальную историю. Тут, как говорится, не вина, тут — беда, беда.
Понимают ли они, что так играть нельзя? Скорее всего — понимают, но ведь от этого их жизнь становится еще мучительнее, невыносимее, безнадежнее... Неизбывная, метафизическая тоска наполнила театр, она плавала по залу и повисала плотными сизыми слоями, как дым в курительной комнате.
Наступил антракт.
Нужно ведь, нужно бы зайти за кулисы к господам артистам, а я не могу.
Стоит только представить, как встречу их немые вопросы, их расстроенные, огорченно-виноватые лица...
Но когда я все-таки поплелся на их половину, то увидел там нечто абсолютно непредвиденное: в мужской гримуборной царило безудержное, даже несколько истерическое веселье. Визгливое мужское хихиканье мешалось с басовитым прокуренным хохотом зашедших к своим коллегам актрис. Прилипшие к губам сигаретки, вальяжные позы нога на ногу — ожидание очередных острот. Подмигивания, подтрунивания, передразниванья, игривые подтексты, не очень понятные чужому человеку, восторженное смакование сегодняшних накладок и оговорок. И новые взрывы смеха.
Мой минор явно был не к месту.
— Что с вами, Михаил Михайлович? Вы так потрясены нашим районным искусством?
Пароксизм веселья усилился. Было видно, что артисты завелись не на шутку и остановиться им уже невозможно. Они хором принялись журить какого-то Васю за то, что тот перепугал "нашего дорогого московского гостя": нельзя, нельзя было выдавать на гора сразу все чудеса своей актерской техники. Возник и сам Вася, рыжий и сухой. Он настойчиво советовал мне не оставаться на второй акт. "Все уже выдано, лучше не смогем-с. Идите лучше в гостиницу — там ресторан еще не закрылся. Выпьете за наши таланты, погибающие даром в этой глухомани". Васю оттащили от меня. Его тут же сменил импозантный "социальный герой":
— Вот вы говорите, что у нас на сцене народу больше, чем в зале. А ведь так бывает у нас не всю дорогу. Бывает у нас и наоборот: в зале больше людей, чем на сцене, — он сделал эффектную паузу. — Когда играем "Двое на качелях"!
И все дружно заржали.
Я посмотрел у них еще три спектакля. Они были не лучше и не хуже первого.
Задача моей командировки была выполнена, и я со спокойной совестью мог уезжать домой. Но странное дело — совесть моя отнюдь не была спокойной. Я тянул с отъездом, сам не понимая почему. Что-то неясное грызло и сосало меня изнутри, как тупая зубная боль. Незаметно поселилось во мне и росло-разрасталось нелепое чувство вины перед этими людьми. Я ведь уезжаю в огромный и прекрасный город, где много хороших театров, хороших магазинов, хороших квартир с паровым отоплением и теплой уборной, а они остаются здесь. Меня ожидает любимая работа, ежедневно приносящая мне счастье, а они... Это было чем-то похоже на те сложные и мучительные ощущения, которые испытывает здоровый человек в присутствии калеки...
Совсем недавно, уже теперь, спустя четверть века после описываемых событий, мне пришлось посещать Институт хирургии — там лежал мой близкий знакомый, инвалид Отечественной войны. У Сени, — так зовут его, несмотря на то, что он давно уже разменял седьмой десяток, — до сих пор не заживает военная рана в ноге. После обострения ему сделали очередную операцию, и он совсем не вставал с больничной постели, не выходил из палаты. В сениной палате стояло четыре койки, и когда я пришел к нему в третий или четвертый раз, рядом с ним, слева у окна, лежал на спине новенький больной. Он читал книгу. Я поздоровался. Он ответил, опустив книгу, и по-больничному доброжелательно улыбнулся. С этой улыбки все и началось: если бы он не улыбнулся, я, может быть и не стал его рассматривать, а тут пришлось ответить вниманием на его улыбку. Молодой, лет под тридцать, загорелый, здоровый и красивый, он лежал без рубашки, укрытый снизу до пояса простыней и байковым одеялом. Я не понимал, что именно, но было что-то тревожное и странное в этом одеяле.
Прежде, в прошлые мои посещения, на этой кровати лежал ливанец, раненый в Бейруте в то время, когда там убили премьер-министра Караме. Разрывной пулей ливанцу раздробило ногу, началась гангрена, и ногу пришлось ампутировать. Ливанец тоже был молодой, даже еще моложе, тоже любил лежать без рубашки, но у него под одеялом не было заметно, что одна нога ампутирована.
А у новенького одеяло в ногах лежало как-то слишком ровно и плоско. Под одеялом не было ничего. Я понял — обе ноги отрезаны, отрезаны очень высоко, до самого паха.
Потом, когда мы вышли из палаты, сенина жена Лена рассказала мне, что зовут этого человека Витя, что он машинист из Грозного, что ему отдавило ноги во время ЧП на железнодорожной станции, что у него двое детей, что жена его тоже приехала в Москву и что она моет и убирает здесь весь огромный больничный этаж и ухаживает за всеми тяжелыми больными вместо отсутствующих нянечек, — лишь бы ее допускали к Вите круглосуточно.
А тогда, в палате, поняв, что у Вити нет ног, я поспешно повернулся к своему Сене, машинально слушал его, отвечал что-то, механически совал Семену какие-то никому ненужные яблоки-антоновки и больше всего боялся нечаянно увидеть пустое одеяло на соседней койке. Мне было мучительно неловко от того, что у меня целые ноги, что я могу ходить сам, что не лежу я беспомощным человеческим обрубком. Я почему-то сразу подумал об Афганистане... Внутренний стыд мой был настолько болезнен, несуществующая моя вина перед Виктором настолько велика, что, казалось, в тот момент я легко согласился бы на ампутацию, даже без наркоза.
Я понимаю, что это нельзя сравнивать, что такие сравнения кощунственны, но в то далекое время, в том далеком городском театрике грызли меня такие же вина и стыд, как потом в институте Вишневского.
...Театральный администратор настойчиво спрашивал, когда я уезжаю, чтобы заказать билет на поезд, а я не знал, что ответить. Я просто никак не мог уехать. Понимал, что ничем не могу облегчить бедственное положение артистов, что не дано мне разделить их горемычную судьбу, что невообразимо глупа сама мысль менять Москву на этот Крыжополь, что здешние актеры будут надрывать животики, узнав о моих "переживаниях", понимал и все-таки томился. И когда подошла одна из актрис, чтобы предложить мне поехать с ними на выездной спектакль ("Увидите "Без вины виноватых"; мы на стационаре их уже не играем"), я с какой-то садистской радостью согласился. Сказал администратору, чтобы билет заказывал на завтра, на утро, позвонил в гостиницу, что ночевать буду у них и в эту ночь, перекусил что-то наспех в соседней тошниловке и пошел садиться в театральный автобус: выезжали в половине четвертого.
Автобус стоял на заднем дворе. Он был маленький, почти игрушечный, с коротким тупорылым радиатором — обшарпанный и помятый "пазик", может быть "лазик", я плохо в этом разбираюсь. В нем только одна дверца — впереди, возле шофера, открывается с помощью рычага. Розовенькие, застиранные и выгоревшие занавески на окнах раздвинуты. Наверху, на крыше, сложена и закреплена рухлядь декораций. Внутри автобуса, в коротком проходе и на последнем сидении навалены чемодан и узлы с костюмами, гримировальными принадлежностями, реквизитом и прочей театральной неизбежностью.
Артисты уже собрались. Шофер копошился в радиаторе. Две немолодые женщины одиноко сидели внутри, а остальные, помоложе, топтались у распахнутой дверцы автобуса — курили. Кучкой, как куры, они то наклонялись к центру и на миг замолкали, слушая внимательно и напряженно, то откидывались наружу круга и сально, смачно хохотали, суча ногами и руками, — шел интенсивный обмен последними анекдотами.
Я прислушался. Анекдоты были французские.
Рассказывал мужчина: "Муж врывается к любовнику: "Мсье Бенуа, вы подлец, вы соблазнили мою жену и я вас сейчас убью!" — "Нет" — "Я застрелю вас!" — "Не-ет! У вас ведь нет пистолета" — "Я вас зарежу!!" — "Нет, нет! У вас нету ножа" — "Я вас повешу!!!"— "Не-е-ет! Вы можете меня только забодать". Взрыв смеха. Рассказчик ковал железо, пока горячо. Он наклонялся, приставлял ко лбу оба кулака с вытянутыми вперед указательными пальцами и, мотая головой, шел на одного из своих коллег. Компания икала от смеха.
Рассказывала женщина: "Беседуют два приятеля: "Жан, моя жена изменяет мне с садовником" — "Почему ты так думаешь?" — "Ну, как же, вхожу я в спальню жены, подхожу к кровати, откидываю одеяло, и там, на простыне, представляешь — лепестки розы" — "Тогда моя жена, Пьер, изменяет мне с полицейским" — "Как ты догадался?" — "Ну, как же, вхожу в спальню жены, подхожу к кровати, откидываю одеяло, а там... полицейский!". Пауза, и они опять закатываются.
Снова мужчина: "Мэр приходит домой и спрашивает у сына: "Поль, ты не знаешь, где наша мама..."
Шофер захлопнул радиатор: "Чего ждем?". Оказалось, ждали Васю.
—Давай дальше: приходит мэр домой...
Но тут пришел Вася — запыхавшийся, красный и, кажется, снова "поддамши". Дружно полезли в автобус, стали рассаживаться, а параллельно шла игра: все беззлобно журили бедного Васю, бедный Вася радостно огрызался — то ли оправдывался, то ли хамил.
Меня усадили на самое лучшее место — на первую скамейку справа, рядом с одной из женщин, скучавших все это время в автобусе. Это была Вера Игнатьевна, ведущая актриса театра, имевшая — в отличие от всех остальных — отчество и даже почетное звание заслуженной артистки Мордовской АССР. Она царственно мне улыбнулась и голосом Аллы Константиновны Тарасовой пропела:
Хотите к окну?
Нет, спасибо.
Возник Вася. "Кстати об окнах. Прелестная гимназистка, натанцевавшись до упаду на уездной вечеринке, томным голосом говорит своему кавалеру: "Ах, я устала, мне так жарко, я пойду к окну". Галантный кавалер понимающе шепчет: "Ну, идите, какните, какните".
Стекла и мелкие металлические детали автобуса жалобно задребезжали от громоподобного гогота — это развеселился театральный пролетариат: осветитель и рабочий сцены. Смеялся герой-любовник, смеялся благородный отец, но громче всех смеялся сам Вася. Я почувствовал, что неудержимо краснею, но ничего не мог с собой поделать. Заслуженная артистка величественно качала головой, а на заднем сиденье в голос рыдали от смеха две молоденькие актрисы. Они вытирали слезы и кулаками месили толстую васину спину.
Шофер повернулся в салон и привстал, упираясь коленом в сиденье, а руками в спинку своего кресла. Медленным взглядом обвел он своих странных пассажиров, неприлично корчившихся в конвульсиях беспричинного веселья, — так, примерно, озирает и пересчитывает свою группу воспитательница детского сада перед прогулкой. Он сказал "поехали", поерзал, усаживаясь поудобнее, захлопнул рычагом дверцу и взялся за руль.
Скрежеща, надсадно чихая и переваливаясь с боку на бок, театральная колымага медленно развернулась и выехала за ворота.
Артисты как-то сразу успокоились, задремали. За стеклами автобуса медленно проплывала главная улица. Невысокие заборы, штакетники, покосившиеся ворота, а за ними — мезонины и крыши бревенчатых домов, охваченных последними огнями поздней осени: полыхала палая листва, пламенели хрестоматийные настурции, вспыхивали рубиновые гроздья рябин.
На центральной площади остановились перед местной достопримечательностью — единственный в городе светофор ненужно мигал, регулируя отсутствующие потоки уличного движения. Справа — горком, разместившийся в купеческом клубе, слева — горсовет (бывш. дворянское собрание). Их окружали непременные торговые ряды XVIII века, каланча пожарной команды, колокольня краеведческого музея и ампирная колоннада горбольницы — на взгорке, в красных хоругвях кленовой листвы, за чугунной узорной решеткой. Зажегся зеленый свет, и мы поехали дальше, а вслед нам из витрины районного универмага прощально улыбался одинокий манекен, зажившийся здесь, вероятно, со времен НЭПа, если не с русско-японской войны. Мелкобуржуазное его происхождение подтверждали тонкие усики, на концах завивавшиеся порочными полуколечками, мейерхольдовский монокль из знаменитого фильма "Портрет Дориана Грея" и неестественно изящная поза, взятая с египетского барельефа. Правда, был он переодет согласно духу нашего времени: в неуклюжую кожаную кепку местного изготовления и в шикарный твидовый пиджак производства Германской демократической республики. Петлицу его украшал огромный ценник — "19 р. 75 коп.".
Автобус постепенно набирал скорость, город постепенно редел и вдруг кончился, растаял, словно его и не было. Простучав по деревянному мосту через тихую речку, мы въехали в вековечный российский простор.
Бодро бежала машина по разбитой шоссейке, крутились с обеих ее сторон перелески, овраги и поля; бурое, черное, ярко-зеленое.
Когда минут через сорок мы свернули с шоссе на проселок, пошел дождь. Во время поворота я успел разглядеть на развилке нелепый придорожный плакат: на огромном вертикальном щите нарисован был мальчик восточного типа с влажными, до жути жалостными глазами, на костылях, в белой рубашке с отложным воротничком; подпись внизу крупным шрифтом: "Посмотри на меня и пожалей себя".
Автобус стало подбрасывать на ухабах, мотор то натужно взвывал, то заходился кашлем старого курильщика, чихал и давал перебои. Пассажиры очнулись от спячки. Теперь они дружно тряслись на сиденьях, клацая зубами, вцепившись судорожно кто во что горазд. За моей спиною, стиснув зубы, кто-то из мужчин тихо и нудно проклинал все на свете: погоду, дорогу, чертов драндулет, проходимца-директора, затеявшего эту поездку, но, главное, себя и свою дурацкую профессию... Горестные эти причитания были прерваны внезапным и резким толчком. Нас всех подбросило и уронило с такой силой, что у меня заныл крестец, а заслуженная моя соседка прикусила язык. Мотор угрожающе заревел, закашлялся и заглох. В тишине стало слышно, как барабанит дождь по брезенту. Шофер подергал рукоятки, раскрыл дверцу и выскочил на дорогу. Он заглянул под колеса, обошел автобус кругом, поглядел вперед на расквашенную дорогу и, постучав в стекло, скомандовал: "Мужики! Выходи из машины — попробую налегке выползти". "Мужики", нехотя, по одному, начали высыпать под дождь, поднимая воротники, надвигая на уши кепочки и шляпы. Сбились в кучу на краю колеи, выбрали местечко повыше и посуше, стали закуривать. Вася потопал в ближний кустарник. К курящим выпрыгнула одна из женщин, молодая актриса, с двумя зонтами, раскрыла их и передала, как букеты цветов. Костюмерша, опустив стекло протянула ей из окошка еще один, третий зонтик, яркий, в горошек, с кокетливой оборочкой, видно из реквизита. Все радостно спрятались в укрытие. Только я гордо и одиноко мок в стороне — я не выношу, не перевариваю зонтиков. Шофер притащил откуда-то охапку прелой соломы, бросил ее под задние колеса, отряхнулся но-собачьи и забрался на свое место.
Не пришлось бы нам подталкивать, — высказал опасение один из артистов.
"Армяне шумною толпою толкали попой паровоз", — процитировал другой.
Тут просто необходимо сказать несколько слов о специфике актерского юмора. Далеко не все артисты обладают даром слова, поэтому они очень часто и с удовольствием пользуются чужими текстами. Ведь сама их работа приучает артистов говорить всю дорогу чужие слова. Отсюда их любовь к игре цитатами. Такая "цитатность" присуща именно театральному остроумию. Разнообразнейшие подтексты, необычные окраски, двусмысленные трактовки, бесчисленные интонационные вариации и перефразирования применительно к конкретным обстоятельствам,— вот чем освежают они заимствуемые реплики.
Автобус задрожал, подергался взад и вперед, бойко затарахтел и выскочил из колдобины. По инерции он проскочил далеко но дороге. Мы радостно побежали вдогонку. На бегу я попал в глубокую лужу и набрал полный туфель холодной воды, но это нисколько не уменьшило всеобщего ликования.
Сели-поехали.
Как мало нужно человеку для счастья: шумно отряхивались, бурно жестикулировали, жужжали, гудели, громко выкрикивали пышные здравицы в честь лучшего в районе шофера, — словом, автобус напоминал густонаселенный передвижной улей. Очевидно для того, чтобы я как следует понял природу и причину столь экспансивного восторга, судьба не заставила себя долго ждать, — при переезде через первый же неглубокий овражек мы засели прочно и очевидно надолго.
Мужчины вылезли из автобуса без команды. Начинало темнеть, и надвигающийся вечер в данной ситуации не сулил ничего приятного. Катафалк Мельпомены застрял в разбитых колеях на самом дне оврага, перед подъемом. По всем признакам он сидел на днище, потому что колеса его бешено крутились, не находя опоры и не двигая машину с места ни назад, ни вперед. Шофер попросил немногочисленных дам освободить салон. Просьба была выполнена без разговоров и мгновенно, а костюмерша даже прихватила с собой большой неподъемный чемодан. Не сговариваясь, мы начали собирать и ломать ветки кустарника, чтобы кинуть их иод колеса. Кто-то обнаружил неподалеку россыпь камней, выступавших из земли на склоне оврага. Выворачивали камни и таскали их, пытаясь замостить бездонные колеи. Шофер поправлял и перекладывал все, что мы притаскивали в соответствии со своими, особыми, не очень понятными простому человеку соображениями. В конце концов он вытащил из-под своего сиденья большие грязные тряпки и накрыл ими кучи хвороста перед ведущими колесами. Как видно наступал ответственный момент. Чувствуя это, люди обступили автобус с обеих сторон. Они так основательно промокли, что на дождь не обращали теперь никакого внимания; под зонтиками стоял только огромный чемодан, на который кто-то водрузил театральный прожектор. Ожидание стало непереносимым, но все терпеливо ждали. Загудел мотор, машина рванулась вперед, выбрасывая из-под себя хворост и грязь, но, увы, не продвинулась ни на шаг. Шофер напряженно подался вперед — ни дать, ни взять механик-водитель, ведущий свой любимый танк в атаку. Шум мотора возвысился до визга. Содрогаясь всем корпусом, автобус медленно пополз в гору. Вот он поднялся на два метра, на три. Единодушный вопль понесся по оврагу: " Вперед! Ура-а-а!". Но тут умолк двигатель, на краткий миг машина зависла на склоне, а затем начала неостановимо пятиться вниз. Все кинулись к ней, стали подпирать ее руками, толкать плечами наверх, истерично крича шоферу: "Давай газу! Газу, газу давай, Сереженька!". Поставленным голосом в интонациях Шаляпина герой-любовник задавал ритм: эх-раз-еще-раз-взяли-дружно-еще раз! Крутились колеса, поливая нас грязью, как из брандспойта, но никто не обращал на это внимания, все старались помочь машине. Рядом со мной шумно задыхалась костюмерша, с другой стороны пыхтел благородный отец. Кто-то смеялся, повалившись на меня сзади: не сачкуйте, Михаил Михайлович, это вам не улица Горького! "Раз-два, взяли! Раз-два, взяли!" — это был уже дуэт: к герою подключилась бегущая сбоку Вера Игнатьевна. В гуще людей визгливо острил Вася: "Мы артисты, наше место в кювете!".
Автобус был уже на середине склона, и вдруг опять заглох мотор. Раздался бешеный крик шофера Сережи: " Разойдись! Задавит!" Все бросились но сторонам и машина в полной тишине покатила назад, вниз, стремительно набирая скорость. Внизу она дернулась и, охнув, уселась на прежнее место.
Вася побежал вниз, размахивая руками и напевая "Наше место в кювете", но поскользнулся и с размаху упал в лужу. Публика раскололась смехом. К нему подбежали две актрисы, стали поднимать его, но он, хохоча, сопротивлялся, как ненормальный, и склонял на все лады "Вася сел в лужу. В лужу сел Вася. Сел Вася в лужу..."
Осенние сумерки сгущались слишком быстро. Тяжелые капли дождя становились все мокрее и холоднее. В довершение всего подул пронзительный ветер. Он по-разбойничьи свистел в приовражных кустах, в голых лакированных прутьях. А бедные служители Мельпомены веселились все отчаяннее.
Водитель включил фары, и все как один заворожено уставились на внезапно вспыхнувший конус. В резком боковом свете фар стало видно: идет не просто дождь, а дождь пополам со снегом...
Прервала молчание Вера Игнатьевна. Она сказала, что уже седьмой час, а в восемь начало спектакля. Еще она сказала, что мы не имеем никакого права задерживать начало спектакля, что до клуба всего километра три-четыре, что придется взять с собой самый минимум (только костюмы, грим и музыкальные записи) и пойти пешком, что без декораций можно обойтись (придумаем "концертный" вариант), что она договорится с председателем сельсовета о присылке сюда трактора, что... в общем надо двигаться. И все с нею немедленно согласились.
Легко и быстро, без особых разногласий разобрали и расхватали узлы-чемоданы. Лаялись беззлобно, для проформы, а, может быть, и для игры. Просто — куражились.
Я в порыве энтузиазма схватил чемоданище, стоявший под зонтиком, но не знал, куда деть фонарь: на землю, в грязь поставить его боялся, все-таки аппаратура; взвалил на плечо и фонарь. Самое трудное было вылезти из оврага, но с этим я справился, а когда оглянулся вниз, был поражен, — настолько экзотичной была картина, представшая моему взору.
Вверх по склону с гиканьем и хихиканьем, падая и поднимаясь, ко мне карабкалась дикая орава веселых и мокрых людей. Растрепанные, заляпанные грязью, увешанные узлами и узелками, чемоданами и саквояжами, в фантастическом ореоле контрового света автомобильных фар, они были удивительно живописны. В композиционном центре группировки мотался сухой и рыжий Вася в ярко-зеленом шелковом цилиндре под красным зонтиком в белый горошек. На правой его руке, элегантно согнутой в локтевом суставе, висел пузатенький клетчатый узел с большими ушами. Из щелей этого узла во все стороны выпирала нищенская бутафория: помятые чайные розы, облупленные южные фрукты из папье-маше, обмотанные дырявой фольгой головки пустых шампанских бутылок и даже жареная курица. Вася все время засовывал ее внутрь, но она упрямо возникала снова и снова. Оправдывая столь необычную куриную настырность, Вася выдвинул гипотезу: ошалев от сельского вольного воздуха, хитрая птица решила порвать с театром и сбежать к деревенским товаркам. Наш комик был в ударе. Подогреваемый удовлетворенным ржанием коллег, он вдохновенно импровизировал спич о благородстве и гордости русского артиста. Потом, на спектакле, я понял, что это был мастерский коллаж из реплик Шмаги.
Увидев меня с фонарем и чемоданом, артисты громко прыснули и стали с трогательной заинтересованностью выяснять, для чего попу понадобилась гармонь.
Поднявшись ко мне наверх, все перевели дух, грустно оглянулись назад на оставшийся в овраге родной автобус, сделали ручкой Сергею и бодро зашагали вперед, в снежную темную муть. На ходу они громко галдели и легкомысленно трепались о чем попало, но постепенно тема дорожной болтовни определилась окончательно — началась классическая актерская дискуссия о положении в периферийном театре: где лучше — в Керчи или в Вологде?
Шлепая по снежному месиву, они радостно выстраивали нелепые воздушные замки на будущий сезон и тут же с хохотом их разрушали:
Кинешма...
Тобольск...
А я думал о другом. О корнях этой необъяснимой выносливости, этого неистребимого актерского оптимизма, о том, как легко и достойно переносят они любые удары судьбы, переезжая из театра в театр, из города в город. Вот и сейчас: идут, радостно базарят — и хоть бы хны.
Тут, вероятно, какая-то таинственная генетика, история в крови, давнишний обычай, идущий от первых наших актеров — отчаянных скоморохов Древней Руси, скитавшихся по лесным дорогам от села к селу, со двора ко двору. Скоморохов гнали, гнули, любили, а они кривлялись, паясничали в веках и, надраив свеклой щеки, орали: меня дерут, а я толстею!
Я думал о том, что, может быть, корни уходят и еще глубже — в психологию народа.
В школе учитель истории рассказывал нам такую вот притчу: некий князь в стародавние времена послал свою дружину собрать дань с одного древлянского племени. Возвратилась дружина с большой добычей, а князь был сильно недоволен: мало, не все, мол, обобрано. Главный дружинник клялся-оправдывался
Все взято, княже, не гневайся. Все, что можно отнять, было отнято. Горько плачут древляне, сокрушаются.
Плачут? — переспросил князь. — Если плачут, значит кое-что у них еще припрятано.
Поехали снова и возвратились с добавочной данью, причем с немалой.
Что древляне?
Стон идет по древлянской земле, княже. Рыдают по весям жены, рвут на себе волосы, а мужи плачут в голос и ругают нас ругательски.
Ништо, — жестко усмехнулся князь и приказал: поезжайте еще.
И снова ушла дружина к злосчастным древлянам, но на этот раз вернулись почти ни с чем. Бросили жалкий скарб перед княжеским крыльцом и стоят молча.
Негусто, — сказал вышедший на крыльцо хозяин. — А как древляне?
Чудное дело, князь. Рыщем мы по дворам, ищем по углам, последнее отымаем, а древлянские люди веселятся: шутки шутят, хохочут-смеются, чуть в пляс не пускаются от радости.
—Больше не езди. Коль смеяться начали — конец: значит, ничего у них не осталось...
Этот парадоксальный принцип — чем хуже живем, тем веселее поем — достоин самого пристального внимания, изучения и уважения, потому что в нем выразилась очень важная, я бы сказал, знаменательная особенность характера русских актеров. Этот принцип знаменует их органическую, естественную народность, неразрывную духовную связь со своими национальными корнями.
Спектакль прошел хорошо. Небольшой клуб был забит до отказа, прием был прекрасный. Наивные зрители плакали, хохотали, хлопали и подавали ядреные реплики по ходу действия. Произошло тривиальное театральное чудо. Случайно все дивно сошлось — одно к другому: непривычный аншлаг, доброжелательный зритель, гений А. Н. Островского, дорожное приключение, поднявшее со дна актерских душ мучительные раздумья о смысле и бессмыслице жизни, о превратностях театральной судьбы. А главное — возникла важнейшая на театре правда — правда мастерства. Совпали уровни: уровень тех, кто играл, и уровень тех, кого играли. Совпали, так сказать, и профессионально, и человечески. Ложь переплавилась в достоверность. Все, что так раздражало в их спектаклях на стационаре (старомодность, дремучие штампы, ложный пафос, декламация, мелкое, ничтожное каботинство), здесь воспринималось как подлинность, как реальность театрального быта второй половины XIX века. А сквозь эту внешнюю правду мерцала живая актерская душа, невольно прорывалась неподдельная беда продрогших, промокших и перенервничавших людей.
0 Лет через восемь, уже в самом конце 60-х годов, я еще раз споткнулся об эту диковинную актерскую веселость, правда, на этот раз в столичном варианте. Все было приличней, тоньше, может быть, даже изысканнее, но суть была та же самая: веселье у последней черты.
Я ставил тогда спектакль в Центральном театре Советской Армии. Пьеса была хорошая, работа шла легко, и репетиции удавались одна другой лучше. Избалованный удачей, я немного распоясался и на очередной репетиции сделал замечание одному артисту. Артист этот был довольно милый человек — тихий, скромный, мягкий и вроде бы с дарованием. Но репетировал он в самом деле неважно, не то, чтобы плохо, нет, просто — никак. И я прицепился к нему:
— Валентин Васильевич, дорогой, так нельзя! Нужно же готовиться к репетиции, причем к каждой репетиции — это элементарно. Нужно работать дома над своей ролью, иначе — халтура. Вам должно быть стыдно! Хоть бы текст выучили...
Он гневно перебил меня:
— А мне, представьте, нисколько не стыдно! — на меня в упор, не мигая, глядели возмущенные и ненавидящие глаза. — Да, я не работаю дома и работать не буду! Не собираюсь!!
?
—Вы не имеете право меня упрекать! Что вы знаете обо мне? Знаете, что ли, как я живу? — он еле сдерживался, чтобы не закричать.
— Я работаю в этом театре восемнадцать лет, мне тридцать девять, а я получаю восемьдесят рэ в месяц. Всего восемьдесят! Это курам на смех. А у меня на шее двое детей, жена не работает... и больная теща! — Он перешел на визг, тряслись руки, дрожали губы, приближалась истерика.
— Как я живу?! Как мы живем?! Не знаю, как мы еще живем...
Его партнер, толстый, большой добряк, что-то шептал ему на ухо, обняв сзади и поглаживая друга огромными лапами. Я слышал только "Валя, перестань, Валя, не надо". Но бедный артист не мог успокоиться.
— Вот вы говорите, надо готовиться к репетиции. Думаете, я не знаю этого сам?
Знаю. Представьте себе, знаю. Но когда готовиться? Когда? Вот сейчас кончится ваша репетиция и я побегу на другую, на телевизионную халтуру. А что мне делать? Все-таки лишняя тридцатка. В Останкино еду на общественном транспорте, с пересадками. На такси денег в нашем семействе нет! Вечером обратно на спектакль. И тоже нельзя опоздать и, значит, тоже бегом. Если свободен от вечернего спектакля, бегу на драмкружок — лишних полсотни. Драмкружок у меня в городе Дмитрове. В Москве все расхватано заслуженными артистами, и нам, простым смертным, остается только Дмитров.
Или Можайск. Три часа туда и три часа обратно. Возвращаешься часа в три ночи — на последней электричке. Транспорт уже не ходит — значит пешком домой с Савеловского вокзала, через всю Москву пешком! А утром снова сюда, на репетицию, к вам, — и он как-то странно хмыкнул — это было что-то двусмысленное, глубоко двусмысленное: то ли привычно спрятанное рыдание, то ли неумело задержанный смешок.
Я был потрясен. Я не мог вымолвить ни слова. Может быть, даже побледнел немного. Помреж впоследствии говорила мне: "стоите белый, как стена". Толстяк стал меня успокаивать:
— Да не обращайте вы на него внимания. С катушек слетел. Со всяким ведь может случиться. Он будет готовиться, ручаюсь — будет. Текст в электричке гад будет учить.
Будешь ведь, Валя?
Меня хватило на то, чтобы прекратить репетицию и отпустить их на сегодня по домам.
Потом стояли на лестничной площадке.
Я закурил.
Друзья-артисты, оба некурящие, тоже взяли у меня по беломорине и как-то неумело, по-актерски неестественно и картинно, пускали дым со мной за компанию.
Молчание опасно затягивалось, и, смущенный тем, что я так сильно расстроен из-за него, виновник происшествия сочувственно пожалел меня:
— Мне бы ваши заботы, господин учитель!
И вдруг затрясся со страшной силой.
Я в недоумении повернул к нему голову и увидел — он внутренне смеется, беззвучно хохочет, сдерживаясь из последних сил. Они понимающе переглянулись и начали ржать вслух — неостановимо, неудержимо, до слез. Они корчились в судорогах неуместного по их мнению веселья, но ничего с собой поделать не могли и только жестами пытались извиниться за свое игривое настроение.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Часть 1. Игра с автором
Часть 1. Игра с автором Если молодой композитор спрашивает, что надо сделать, чтобы написать выдающуюся оперу, то ему можно ответить только одно: прочти поэтическое произведение, устреми к нему все свои умственные силы, со всей мощью воображения вникни в развитие событий,
5. Разбор пьесы как игра
5. Разбор пьесы как игра Сняв очки, символизирующие ученость, и отложив в сторону увесистые ученые фолианты, олицетворяющие серьезный подход, мы снова ощутим веселую свободу непредвзятости и младенческую радость видеть окружающие предметы как бы заново. Упадут,
17. Загадочная картинка как игра
17. Загадочная картинка как игра Вам не случалось в детстве рассматривать загадочные картинки? Да? И я обожал. Какое это удовольствие — часами разглядывать непритязательный пейзажик, вертеть его перед собой и выискивать на нем фигурки человечков, зверюшек, птиц и
23. Зигзаг в сторону структуры: игра музыки и графики
23. Зигзаг в сторону структуры: игра музыки и графики Третья сцена резко отличается от двух предыдущих. По количеству текста она намного длиннее их, вместе взятых. Вероятно, больше в ней и событий — не три уже и не шесть, а много, очень много. Пожалуй, три раза по шесть, никак
5. Игра "Музыкальные эксцентрики". Советы молодому режиссеру, желающему научиться слышать музыку пьесы
5. Игра "Музыкальные эксцентрики". Советы молодому режиссеру, желающему научиться слышать музыку пьесы Режиссерские этюды "на музыку" — непритязательные сами по себе упражнения. Иногда они приводят к созданию маленьких шедевров, иногда кончаются ничем, выродившись — от
8. Зигзаг: игра и наука. Несколько первоначальных и примитивных правил, обуславливающих и организующих творческую игру режиссера
8. Зигзаг: игра и наука. Несколько первоначальных и примитивных правил, обуславливающих и организующих творческую игру режиссера Беру быка за рога и сразу же без перехода, по контрасту с предыдущими поэтическими туманами и психологическими двусмысленностями, привожу
Театр*
Театр* Артист перевоплотится из имитатора, подражателя, копировщика — в творца. Питающийся крохами природы и жизни, одухотворяющийся сплетнею, любовными сценками, он будет связан духом, непосредственно станет перед лицом его дыхания и из ничего бросит в [живую] жизнь
Последняя игра
Последняя игра Подобную консолидацию можно увидеть во многих областях — это и всевозможные развлечения, и диверсифицированные компании, и коммунальные службы. Здесь вы видите консолидацию в торговле произведениями искусства. Аукционные дома вполне могли бы взять все