Глава 6. Отношения
ОТНОШЕНИЯ С МУЗЫКОЙ
Отношения дирижера с музыкой важнее всех остальных. Это может показаться очевидным, но дирижерское дело — еще и бизнес. Им занимаются, чтобы заработать на жизнь, а получить место и сохранить его за собой особенно сложно, ведь это зависит от мнения множества разных людей. Такого понятия, как гарантированная занятость, здесь не существует, и не важно, кто вы и какую известность приобрели. Единственная правда, которая направит вас вперед и всегда будет поддерживать, — это отношения с исполняемой музыкой.
Возможно, правильнее будет сказать «отношения с музыкой вообще», потому что нам не всегда доводится дирижировать то, что мы любим и что хотим дирижировать. Музыкальные руководители и приглашенные дирижеры часто должны исполнять совсем не близкие им произведения. Последним обычно сообщают, кто будет их солистом и какой концерт он собирается играть. Это предложение, от которого нельзя отказаться. Солиста выбирают по его звездному статусу и репутации, в зависимости от необходимости привлечь аудиторию, и обычно он играет популярный и впечатляющий концерт. Все, кто ходил на концерты Нью-Йоркского филармонического под руководством Пьера Булеза (в 1971–1977 годах), наверное, так или иначе сочувствовали маэстро, когда ему приходилось дирижировать вещи, вызывавшие у него явное отторжение. Это были произведения Мендельсона, Дворжака, а также, возможно, худшее (для него) выступление 1973 года со Вторым концертом для фортепиано Брамса, который играл Ван Клиберн. Брамс не вызывал у Булеза никакого интереса, а Ван Клиберн считался поп-звездой среди пианистов.
Леонард Слаткин в недавней автобиографии «Дирижерское дело» («Conducting Business») пишет, как ему пришлось разучивать Симфонию для трех оркестров Элиота Картера в 1984 году. Картер был ведущим американским композитором-интеллектуалом; он получил массу наград и до сих пор считается одним из величайших в послевоенной классической музыке — по крайней мере, в Америке и в глазах американских музыкальных критиков. Исполнить симфонию Картера заказали шести оркестрам, и все они должны были включить ее в репертуар. Георг Шолти в то время работал музыкальным руководителем в Чикагском симфоническом. В отличие от Булеза с Нью-Йоркским филармоническим, Шолти отказался разучивать произведение. Клаудио Аббадо был главным приглашенным режиссером в Чикаго и считался такой важной фигурой, что администрация разрешила ему включать в репертуар только то, что он хотел; музыка Элиота Картера туда не вошла. Следующим в порядке приоритетов был Эрих Лайнсдорф. «Лайнсдорф сильно намучился с Концертом для фортепиано Картера и сказал мне, что больше в жизни не возьмется за его произведение», — пишет Слаткин. Как и Шолти, Аббадо и Лайнсдорф, Слаткин не испытывал особого желания играть эту музыку, но его всё равно заставили ее выучить. На мировой премьере в 1977 году дирижировал Булез, но к 1984 году Чикагский симфонический так и не сыграл эту вещь. Слаткину сказали: «Либо вы разучите произведение, либо оркестр потеряет примерно четверть миллиона долларов». Чтобы не портить отношения с Чикагским симфоническим оркестром, Слаткин неохотно согласился выучить симфонию и выступить с ней[23].
История Слаткина важна по многим причинам, и мы вернемся к ним ниже. Помимо прочего, она показывает, что от академических дирижеров нашего времени требуют часто выступать с самыми сложными произведениями. Необходимо быть достаточно авторитетным и технически компетентным во всем спектре симфонической музыки, — такого никогда не ожидали от Тосканини или Ганса Рихтера.
Хотя некоторые из нас приняли решение стать специалистами в определенной области — или его навязали нам жесткие категории в мире симфонической и театральной музыки, — большинство дирижеров, возглавляющих коллективы, должны уметь справиться с чем угодно.
В целом это означает, что музыкальные руководители основных оркестров должны показать, что способны дирижировать новую музыку невероятной сложности, а не только отлично исполнять Чайковского и Бетховена. Даже если публика приходит слушать именно этот репертуар, критики будут судить дирижеров по работе с трудными современными произведениями. Многие из нас, кому приходится месяцами разучивать такие вещи, знают, что с большой вероятностью выступят с ними только один раз.
Оставляя в стороне сложности для понимания и исполнения, которыми отличаются многочисленные «атональные» симфонические и оперные произведения (те, что широкая публика называет «современными»), появившиеся после Второй мировой войны, надо сказать, что склонность — или, может, лучше будет сказать «любовь» — дирижера к определенным композиторам или видам музыки не всегда значит, что он окажется особенно убедительным ее интерпретатором. Это еще одно — досадное — слагаемое нашей тайны. Если дирижер обожает оперы Вагнера и не интересуется французской оперой XIX века, это не значит, что «Тристан и Изольда» получится у него лучше, чем «Манон Леско». Более того, шанса дирижировать Вагнера ему может не выпасть.
Наверное, определенная дистанция позволяет более надежно подружиться с музыкой — не тонуть в любимом произведении, а, скорее, представлять его бесстрастно. Но, как однажды написал Лоренц Харт, «неразделенная любовь скучна». Прежде всего мы продавцы, и мы должны уметь продать всё, что исполняем. Если эта фраза кажется вам слишком вульгарной, то называйте нас болельщиками или чирлидерами. Когда нас спрашивают о любимом произведении, мы должны всегда отвечать одинаково: «То, что я дирижирую». Находясь «внутри» пьесы, мы знаем вещи, которых не знали раньше и которые можем потом забыть.
Порой в этом «браке по принуждению» приходится потратить какое-то время, чтобы превратить изучение нот в осознание того, почему они существуют и заслуживают быть сыгранными. В 1995 году меня попросили выучить и записать три концерта для скрипки, запрещенных Гитлером, в рамках серии, которую фирма Decca организовывала в Берлине. Композиторами были Эрих Вольфганг Корнгольд, Эрнст Кшенек и Курт Вайль. К каждому из произведений требовался особый подход.
Концерт Вайля поддавался труднее всего, потому что он был написан в начале 1920-х годов — то есть до того, как Вайль приобрел характерное звучание. Хотя в то время он уже был успешным композитором и только что завершил обучение у одного из виднейших преподавателей Европы, Феруччио Бузони, его стилистический прорыв в «Трехгрошовой опере» в 1928 году еще оставался впереди. И как можно было, занимаясь концертом 1924 года, этими пробами молодого композитора, использовать знания о том, каким ему еще только предстояло стать? Разучивая ноты, я стал одновременно исследовать политическую деятельность Вайля в тот период. Я узнал, что он вступил в «Ноябрьскую группу» — радикальное политическое объединение художников, и через это я получил ключ к пониманию. Я помню, как поднял руки, чтобы начать сессию звукозаписи в Берлине, и вдруг мне представилась группа молодых художников, самопровозглашенных радикалов и революционеров, выступающих против новых законов относительно искусства. Малый барабан и точечные аккорды у медных духовых и фаготов стали символами военизированной государственной власти. Дирижируя концерт в первый раз и глядя в ноты перед собой, я вдруг понял, что делать с этой музыкой.
В то время я был уже хорошо знаком со стилем Корнгольда, и несколько записей скрипичного концерта помогли узнать его лучше, однако по пути в Берлин произошли две вещи. В биографии «Последний вундеркинд» («The Last Prodigy») Брендана Кэрролла сообщалось, что концерт, написанный после Второй мировой войны, на самом деле не вобрал в себя мелодии из музыкального сопровождения к фильмам Warner Bros., как принято считать. Кэрролл обнаружил, что многократно использованные в концерте темы появляются в фильмах, снятых в конце 1930-х годов. Получается, что Корнгольд в 1945 году решил написать скрипичный концерт на основе музыки для кино, но не использовал более новые произведения? В интервью, данном в Вене в 1937 году, он говорил о новом скрипичном концерте, однако завершенное произведение появилось только десять лет спустя. Кэрролл предположил, что композитор включил темы из незаконченного скрипичного концерта в ранние работы для кинематографа, а не наоборот.
По словам Эрнста, старшего сына Корнгольда, его отец никогда не думал, что его музыка для кинофильмов будет исполняться на публике, поэтому время от времени повторно использовал материалы из других источников, — к такой практике прибегали многие композиторы, включая Бетховена и Генделя. Более того, именно по этой причине Корнгольд считал, что ему стоит писать музыку для кино: пока Гитлер был у власти, новая музыка композитора не могла исполняться в Третьем рейхе. После окончания войны Корнгольд прекратил работать на Warner Bros. и за годы до своей преждевременной смерти в 1957-м, когда ему исполнилось шестьдесят, написал симфонию, «Симфоническую серенаду», струнный квартет и концерт для скрипки.
Какое отношение это имеет к моей дирижерской работе над концертом? Выходит, что, положившись на исследование Кэрролла, я стал первым дирижером, который воспринял произведение прежде всего как скрипичный концерт. Если его темы потом и появлялись в кино, то это скорее было похоже на использование анданте из Фортепианного концерта № 21 Моцарта в фильме «Эльвира Мадиган» или отрывка из «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса в «Космической одиссее 2001 года» Стэнли Кубрика. Да, у меня были те же ноты, что и у других дирижеров, но я исходил из совершенно другой точки. (Слышно ли это кому-то, кроме меня? Не могу сказать.)
Во-вторых, изучая партитуру, я осознал, что Корнгольд создал волшебную ауру вокруг сольной партии скрипки. (В известной записи Яши Хейфеца, сделанной в 1953 году, оркестровка практически не слышна, и от этого создается ложное впечатление, что оркестр играет в концерте поверхностную роль.) Учителем Корнгольда, которым тот очень восхищался, был Рихард Штраус. В «Жизни героя» Штрауса длинная каденция на солирующей скрипке — портрет жены композитора Паулины. Известно, что Корнгольд очень любил свою жену Люци. Ей он посвятил «Симфоническую серенаду» 1945 года. Сосредоточившись на этом, я внезапно вообразил, что его концерт — любовно выписанный портрет спутницы жизни, ангела композитора. Во второй части челеста, арфа и вибрафон часто используются, чтобы окрасить ноты солирующей скрипки аурой звенящих в воздухе колокольчиков. То волшебное прикосновение открыло мне произведение; когда мы его записывали, я разместил эти инструменты вокруг скрипки канадской скрипачки Шанталь Жюйе, и, когда бы я ни исполнял «Симфоническую серенаду» и кто бы ни был солистом, делаю то же самое. Все эти элементы вошли в процесс, который позволил мне дирижировать концерт.
Концерт Кшенека был мне абсолютно неизвестен. Но на сессиях звукозаписи я решил, что могу поддержать Шанталь и обеспечить ей страстное и убедительное исполнение. Я брал на себя большую ответственность, потому что мы в первый раз записывали концерт, сочиненный в 1924 году. Публике предстояло оценить его по нашему выступлению. И тогда случилось чудо! Свидетель мировой премьеры появился на наших сеансах звукозаписи в ноябре 1995 года.
Бертольд Голдшмидт в молодости был одним из прекрасных молодых композиторов догитлеровской Германии. В отличие от Кшенека, который бежал в Америку, Голдшмидт бежал в Англию, где его музыку не исполняли. Голдшмидт вошел в число пострадавших от «побочного ущерба», нанесенного немецкой музыке. Он выжил, работая на ВВС, и только на склоне лет был заново открыт продюсером Decca Михаэлем Хаасом, который затем записал ряд его работ. Голдшмидт смог вспомнить и передать смысл концерта Кшенека, поместив уже выученные ноты в контекст прямо перед тем, как звукорежиссеры нажали кнопку «Запись».
Мы знали, что концерт был посвящен виртуозной скрипачке и красавице Альме Муди, а до Голдшмидта в свое время дошли слухи о ее романе с Кшенеком. Он убедился в их правдивости, когда отправился за кулисы, чтобы поздравить фрау Муди с мировой премьерой. Кшенек не присутствовал на выступлении. Примерно семьдесят лет спустя Голдшмидт написал об этом опыте: «Память ожила, и меня быстро затянуло в „биографическую новеллу“, которая предстала моим глазам и ушам, погрузившимся в прошлое». Он рассказал мне обо всех аспектах партитуры и связанных образах: о «капризной, элегантной красоте», присущей музыкальному описанию Муди в начале концерта, об отсылке к «мотиву эрекции», открывающему «Кавалера розы» Штрауса (кто бы мог подумать?), о повторяющемся ритме ночного поезда, бегущего по рельсам, о решении любовников расстаться и заняться личными карьерами и т. д. Хотя Голдшмидт слышал концерт только один раз на мировой премьере, он не сомневался в том, что вдохновило композитора и что означало его произведение. Рассказав нам об этом и присутствуя в помещении на записи, он поделился с нами знанием, глубоким пониманием и опытом, которые нельзя было бы получить иным путем.
Как видите, искать путь к музыке приходится по-разному в случае с каждым произведением, и этот процесс свой у каждого дирижера. Логично предположить, что одной из точек отсчета должен быть нотный текст произведения: разве он не являет собой самое точное представление желания композитора? И снова всё оказывается не так просто! С годами композиторы меняют свое мнение, и порой величайшие выступления делаются по неточным вариантам, но всё же передают намерение.
Для многих слушателей сэр Томас Бичем был величайшим дирижером, работавшим с симфониями Гайдна. Но скрупулезно отредактированное издание, подготовленное Говардом Чендлером Роббинсом Лэндоном, вышло только в 1961 году, уже после смерти Бичема. Тем не менее записи Бичема ценятся до сих пор. Многие фанаты оперы взяли бы диск с записью «Севильского цирюльника» с Марией Каллас и Тито Гобби на необитаемый остров, но текст и стиль их исполнения противоречат тому, что сообщают нам музыковеды о манере исполнения, принятой во времена Россини. Позвольте мне объяснить это.
Перед музыковедами стоит задача готовить критические издания музыки прошлого. Обычно они делают всё очень тщательно, но не всегда понимают, как создается музыка и почему между появлением партитуры и отдельных партий принимались те или иные решения. В опере и музыкальном театре работает много людей (певцы, режиссеры, композиторы, продюсеры), влияющих на ту редакцию произведения, в которой вы его там слышите. Критическое издание (или «идеальный текст») учитывает все эти «голоса» и исправляет ошибки в самих нотах (обычно в классической музыке их очень мало)[24].
Критические издания также говорят, что делать с нотами. Связаны они вместе или разделены? Стоит сделать крещендо, или лучше сохранить динамику? Эти вещи только кажутся тривиальными. Произведения, которые утратили популярность, например «Безумный на острове Сан-Доминго» Доницетти, нуждаются в восстановлении для публикации после долго перерыва, чтобы старые ошибки переписчиков не закрепились навсегда. С другой стороны, работы, остававшиеся в репертуаре, такие как «Лючия де Ламмермур» того же Доницетти, должны быть очищены от изменений, внесенных за сто семьдесят пять лет вследствие смены вкусов и желаний непригодных для главной роли певиц (высоких колоратурных сопрано) сыграть ее. Всё это приводило к новым традициям и ожиданиям публики относительно оперы, никогда не терявшей славы.
Кроме того, итальянские оперы начала и середины XIX века редактировались и публиковались спустя десятилетия, и в них вносились стилистические изменения, естественные для опер, сочинявшихся в начале XX века. Например, серия коротких нот у скрипки, которые в 1825 году игрались отдельно, — на каждую ноту приходилось движение смычка, — спустя полвека была напечатана так, чтобы ее исполняли одним движением. Это позволило играть быстрее, но лишило музыку внутренней энергии. В результате многие дирижеры, включая Тосканини, полагали, что верны нотам, игнорируя, однако, очень важный аспект, а именно темп, выбранный композитором.
Это похоже на вызов сторонникам строгого соблюдения конституции и религиозным фундаменталистам: священный текст всё равно необходимо перевести и оживить, и не важно, насколько вы верны ему. Тосканини придал произведению Верди волнующе новое звучание, исполняя быструю музыку быстрее, а медленную — медленнее, чем было указано в лежавших перед дирижером нотах. Чтобы сыграть все стремительные шестнадцатые быстрее, пришлось делать это на один смычок. Благодаря новому стилю «Риголетто» зазвучала свежо и актуально, как будто ее сочинили в 1920 году, а не в 1851-м, когда это сделал Верди. Вы можете спросить: «А разве тут что-то не так?» Одни ответят «да», а другие — «нет».
Каждый композитор всегда разрывался и будет разрываться между идеальным произведением и требованиями живого представления, и больше всего проблем с этим случается в самой сложной форме искусства — в опере. После премьеры «Летучего голландца» в 1843 году Вагнер внес больше всего изменений в оркестровый баланс. То, что получилось в Дрездене на премьере, не подошло многим другим театрам, и Вагнер продолжал делать правки — а ближе к концу жизни выразил сожаление, что у него не осталось времени отредактировать всю партитуру. На это есть три причины: во-первых, Вагнер обладал большим опытом как композитор, чем как дирижер; во-вторых, в разных театрах была разная акустика; и, в-третьих, мастерство музыкантов в оркестрах тоже было разным.
Девяностолетний Леопольд Стоковский вспоминал, как наблюдал за Густавом Малером, который готовил оркестр и хоры к мировой премьере Симфонии № 8 в Мюнхене в сентябре 1910 года: «Репетиции были закрытыми, поэтому я купил в ломбарде скрипичный футляр и просто вошел с другими оркестрантами. Никто меня не остановил, и я поднялся на балкон, чтобы понаблюдать». Потом он сказал вещь, которую я не забуду никогда: «Оркестр его ненавидел». — «Но почему, маэстро?» — спросил я. «Он всё время менял оркестровку».
В том-то и суть. Малер «настраивал» новое произведение для зала и добивался баланса с помощью музыкантов. Хотя он блестяще оркестровал и дирижировал, ему постоянно приходилось решать, сколько именно духовых должны играть мелодию, не нужно ли продублировать что-то у альтов, не поменять ли октаву у кларнетов и т. д., — а всё ради того, чтобы прояснить и подчеркнуть свои намерения и чтобы симфония зазвучала именно так, как он воображал, когда записывал ноты.
Вот почему Стоковский считал своей обязанностью менять оркестровки в зависимости от зала и от оркестра, которым он руководил. Любой маэстро, утверждающий, что просто играет написанное в нотах, либо говорит неправду, либо неправильно понимает главную функцию дирижера в отсутствие композитора. Малер менял все свои симфонии (и потому у нас есть разные «издания» его музыки) и считал своей обязанностью делать то же с чужой музыкой, а также, как видно из приведенной выше цитаты, обязывал других делать это со своей музыкой.
Есть такой термин — «психоакустика»: им обозначают субъективное восприятие в противоположность звукам, которые действительно издает оркестр. Когда мы, дирижеры, изучаем партитуру и пытаемся воплотить ее в музыку для аудитории, перед нами встает фундаментальный вопрос: динамика, которая значится в нотах, — это то, что слышит публика, или то, что надо играть оркестру? Позвольте мне объяснить на примере.
Кульминационный момент в увертюре Леонарда Бернстайна к «Кандиду» представляет собой так называемый трехголосный канон: мелодия начинается; вскоре та же самая мелодия начинается снова, следуя за первым голосом; наконец, она начинается в третий раз, — и всё это звучит хорошо! («Братец Яков» — известный пример песни, которую можно петь каноном.) Бернстайн любил этот принцип: три отдельных голоса ведут одну и ту же мелодию, и в каждый момент ухо слышит разные ее части одновременно.
Проблема с оркестровкой трехголосного канона в увертюре состояла в том, что второй голос предназначался для вторых скрипок, но в таком случае слушатели могли уловить только первый и третий голоса. Когда я в первый раз дирижировал эту увертюру, то попросил вторые скрипки играть громче других голосов, чтобы аудитория могла психоакустически услышать тройной канон. В конце концов я сдался, потому что нам просто не хватало мощности, и добавил ко второму голосу трубу. Таким образом, намерение композитора было реализовано в акустической реальности, а не в том, что буквально присутствовало на странице. Так и подразумевалось. В 1989 году, незадолго до смерти, Бернстайн выступил с увертюрой, в которую было внесено это изменение, и теперь ее публикуют именно так.
В 2003 году, когда я готовил серию представлений «Летучего голландца», мой хормейстер в Питтсбургской опере, Джозеф Лоусон, показал мне партитуру до того, как начал готовить хор. Он получил серию редакторских правок, которые, как он объяснил, отразили «старые байройтские традиции» представления «Голландца». В нотах были изменены гласные и фразировка как для мужского, так и для женского хоров. Фразировка изменилась так: переходы от коротких нот к длинным перевернули, а в некоторых случаях финальные короткие ноты вообще убрали. Он получил эти правки от Дональда Палумбо, хормейстера из Лирической оперы Чикаго, которому их дал Норберт Балач, байройтский хормейстер в отставке, принявший от легендарного хормейстера Вильгельма Питца Neue Bayreuth[25], как его называли в свое время, то есть послевоенный Байройтский фестиваль. «Старые» традиции, очевидно, были введены в 1970-х годах, чтобы помочь байройтскому хору петь в специфических акустических условиях этого театра, где невероятно трудно скоординировать происходящее в оркестровой яме и на сцене, поскольку звук из прикрытой ямы доходит с большим запозданием.
Оперу «Летучий голландец» никогда не ставили в Байройте при жизни Вагнера, но приведенный выше факт многое говорит о Мекке вагнеровских спектаклей. Длительности, гласные и фразы изменили, чтобы повысить качество исполнения и контроль над ним. Будучи человеком театра, Вагнер, возможно, первым стал бы помогать в этом процессе. Когда я спросил Пьера Булеза, используются ли в Байройте оркестровые материалы с первых представлений «Кольца нибелунга» и «Парсифаля», мировых премьер под непосредственным руководством Вагнера, он посмотрел на меня вопросительно и сказал: «Нет. Мы заменяем их новыми».
C одной стороны, Булез, который создавал абсолютно новый стиль представлений Вагнера в мире после войны — прохладный и ясный, не был заинтересован в возвращении к оригинальным редакциям. С другой стороны, Булез также возглавлял работу над критическим изданием балета Дебюсси «Игры», написанного в 1913 году, со сносками и альтернативными пометками на основе разных оригинальных источников. Как видите, все мы придирчивы в выборе текстов, которые используем и интерпретируем.
Мы живем во времена, когда ноты не переписываются от руки для композиторов, а распечатываются из файлов, которые можно обновить и изменить, не оставляя особых следов. Вообразите мое удивление, когда я узнал, что в библиотеках Метрополитен-оперы, Лирической оперы Чикаго и Оперного театра Сиэтла — трех важных оперных театров, где регулярно ставят Вагнера, — на тот момент не было критического издания «Летучего голландца». Роберт Сазерленд, в то время главный библиотекарь в Метрополитен-опере, сказал мне, что их материалы отражают существующую традицию, «которая восходит ко временам, когда люди в Метрополитен-опере знали Вагнера», и что их традиции «практичны и действуют до сих пор». Ну а как же те, кто много лет вносил изменения? И как эти изменения привели к другим изменениям? Можно ли назвать такое «традицией»?
Когда я ассистировал Лорину Маазелю в «Ла Скала» в 1985 году на серии представлений «Турандот» Пуччини, хор пел фразу «Gira la cote!» («Саблю точите!») в первом акте в два раза быстрее, чем в партитуре. Во время генеральной репетиции Маазель повернулся ко мне и сказал: «Это старая традиция в „Ла Скала“». Я прилежно сделал запись в своей партитуре.
Потом я обдумал это обстоятельство. Пуччини умер в 1924 году, не закончив «Турандот», однако написал два с половиной акта. Если изменение — «старая традиция», значит, его, вероятнее всего, ввел в 1930-х или 1940-х годах некий неизвестный дирижер, который посчитал, что, если отсутствующий на сцене хор будет приказывать точить инструмент палача так удивительно медленно, это покажется нереалистичным. Но ведь вся опера абсолютно нереалистична. Костюмированный хор притворяется жителями Пекина 1400 года, исполняя слова на итальянском языке под музыку, сочиненную в 1920-х.
Тосканини, который дирижировал на мировой премьере «Турандот» в 1926 году, как известно, сказал: «Традиция — это последнее плохое выступление». Конечно, сам он тоже создал немало театральных традиций как в Метрополитен-опере, так и в «Ла Скала» (хотя и не эту конкретную). Надо сказать, что тщательное изучение рукописи Пуччини позволяет утверждать: то, что он написал и чего хотел, — именно опубликованные ноты, а не то, что исполняли в «Ла Скала», для которого они предназначались.
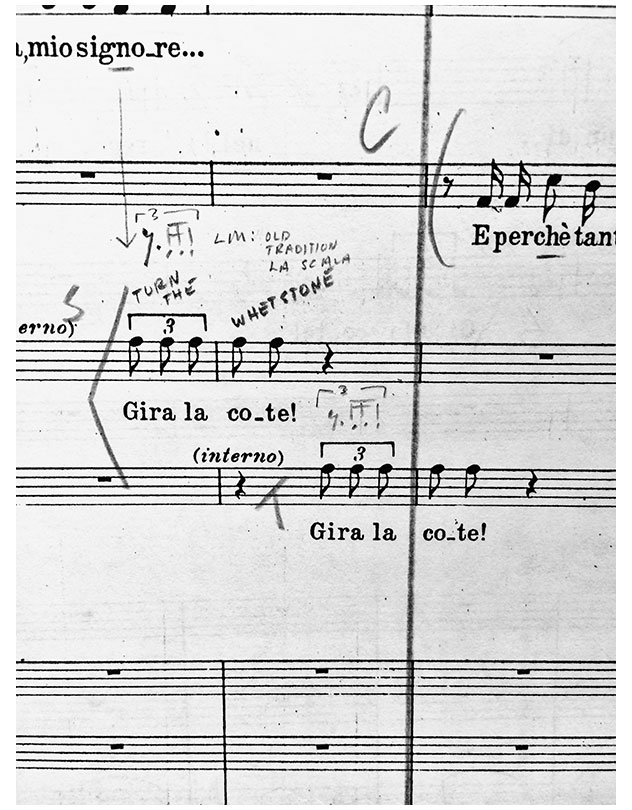
Крупный план моей личной партитуры «Турандот» с аннотациями Лорина Маазеля, сделанными в 1985 году
Наверное, этот пример покажется не очень важным, и я сомневаюсь, что любители «Турандот» усмотрят связь между приведенным выше рассуждением и возможностью насладиться произведением. Всё это нюансы! С другой стороны, в критических изданиях есть тысячи деталей, из которых складывается нечто большее — максимально подробное знание написанного композитором. Такое издание становится непоколебимо авторитетным источником для дирижера, и, отталкиваясь от этой точки — а не от чужой интерпретации, — можно идти вперед, не теряя контакта с авторским замыслом. Конечно, такое произойдет только в случае (снова мы возвращаемся к этому), если дирижер знает, как читать текст и как именно композитор использовал нотацию. Например, в партитуре Бетховена самым громким динамическим обозначением будет фортиссимо (ff), а самым тихим — пианиссимо (pp). В партитуре Рихарда Штрауса может присутствовать градация от fff до ppp. Это не значит, что Штраус хотел сделать свой самый громкий звук громче, чем у Бетховена. Он просто решил внести больше оттенков. Другими словами, дирижер, даже располагающий наилучшей партитурой, должен понимать все тонкости динамики и артикуляции в ней. Также он должен понимать, что она означала для музыкантов во времена жизни композитора и, что самое важное, как это лучше всего перенести в наше время.
Кристоф фон Донаньи говорил, что дирижерам нужно исполнять додекафонную оперу «Воццек» Альбана Берга брутально и таким образом восстановить эффект, который она оказывала на аудиторию в 1925 году. Однако музыканты в 1925 году играли эту оперу, делая плавные переходы между мелодическими линиями (это называется portamento), потому что их учили поступать именно так. Если использовать этот прием сегодня, то «Воццек» будет звучать лиричнее. Донаньи решительно хотел избежать такого эффекта, предпочитая, чтобы музыка воспринималась как революционная и шокирующая. Другие дирижеры предпочитают исполнять ее скорее так, как Берг мог слышать ее в уме. Спустя почти сто лет после появления оперы мы воспринимаем ее в традиции мрачных, эмоциональных и — что важно — эмпатических произведений. Один способ исполнения ближе к антиэмоциональной брутальности, которой хотел добиться Стравинский в поздних исполнениях «Весны священной», а другой позволяет представить «Воццека» как мольбу о понимании и прощении для тех, кто страдает под ярмом бедности и милитаризма. Да, вот так сильно можно изменить произведение, даже когда мы утверждаем, что играем в точности «как написано».
Если мы стараемся проникнуть в голову композитора, выстраивая отношения с его музыкой, полезнее всего будет изучить партитуру, написанную им от руки. Это настолько интимный процесс, что с источником музыки ощущается особая связь. Открыть партитуру последней оперы Бенджамина Бриттена, «Смерть в Венеции», и увидеть все ноты, написанные его почерком, — глубокий мистический опыт. Нам редко выпадает шанс увидеть рукопись композитора, хотя микрофильмы и цифровые архивы существуют, и ими можно воспользоваться. В прошлые века дирижер работал или по напечатанным нотам, или по партитуре, скопированной переписчиком. Бывали случаи, когда дирижер пользовался непосредственно рукописью. Еще в 1952 году Леонард Бернстайн дирижировал по рукописи «Трехгрошовой оперы» Вайля и делал в ней пометки красным и синим карандашом.
Как только в первой половине XX века появилось ксерокопирование, стало возможным делать точные копии драгоценных нотных текстов. Бенито Муссолини, понимая, что шанс прикоснуться к рукописям великих итальянских композиторов имеет огромное духовное значение, опубликовал ограниченным тиражом сфотографированные рукописи шедевров итальянской оперной сцены, и у дирижеров со всего мира появилась возможность изучать их и вдохновляться ими.
Современные партитуры, напечатанные на компьютере, обычно легче читать. Они придают всей новой музыке официальность и серьезность. Сегодняшние оркестранты, увидев на своих пюпитрах ноты, переписанные от руки, неизбежно сочтут, что музыка не блещет достоинствами. Мы, дирижеры и музыканты, невероятно много получили от этого технического достижения, но одновременно утратили контакт с уникальными источниками. Сейчас все ноты выглядят так, словно их написал один человек.
Когда я в первый раз дирижировал «Мессу» Бернстайна вскоре после мировой премьеры в 1971 году, то использовал партитуру, написанную разными почерками. Я скоро понял, какие части оркестровал Бернстайн, а какие — другие люди. Я также узнал, какие из них переработаны из других источников: например, гимн «Sanctus» («Свят») был переделан из песни, которую Бернстайн сочинил ко дню рождению своей учительницы фортепиано Хелен Коутс.
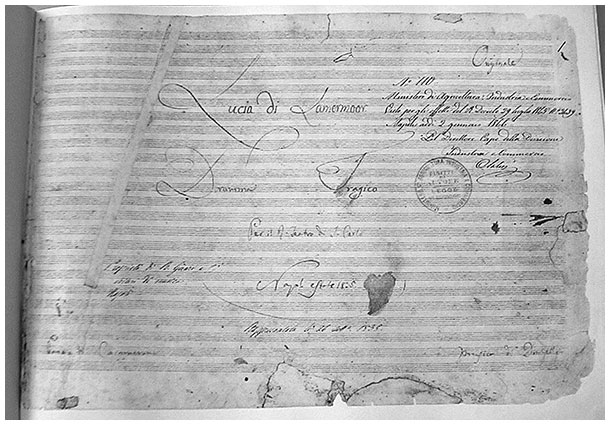
Первая страница рукописных нот «Лючии ди Ламмермур» Доницетти.
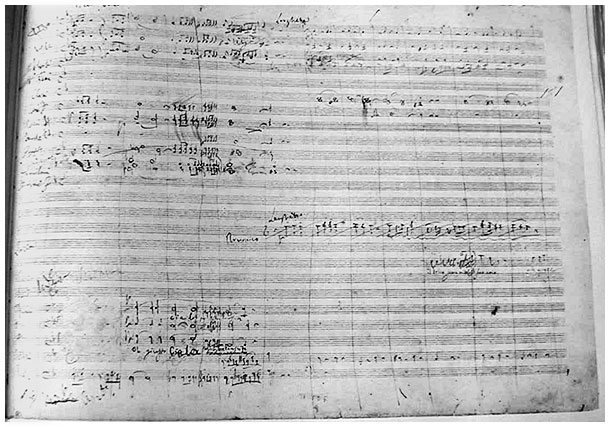
Начало знаменитой «Сцены безумия»
То же справедливо и для оперы «Тихое место». Но эта сложная история не оставила следов. Может быть, так оно и лучше? Безусловно, ведь дирижер подходит к произведению как к завершенному целому, которое в конечном счете является детищем одного художника, пусть даже ему помогали и содействовали на пути. Кроме того, как я говорил выше, пользуясь напечатанными партитурами, мы получаем преимущество удобочитаемости.
Бернстайн дирижировал исполнение «Тихого места» уже после того, как его поставили в Хьюстоне в 1983 году (под руководством Джона Демейна), а потом, в полностью переработанной версии, — в «Ла Скала» и Кеннеди-центре (оба раза — под моим руководством). Ирвин Костал, чья рукопись предназначалась для переписчиков, а не дирижеров, сделал оркестровку большей части оперы. Его не особенно заботила необходимость выравнивать ноты на странице, как это должно было быть в напечатанной партитуре. В результате я с трудом понимал, кто с кем играет, — приходилось рисовать пунктирные линии вверх и вниз на сотнях нотных страниц. («Как Мосери это дирижировал?» — Бернстайн часто полушутя задавал этот вопрос в Вене, где впервые воспользовался полной партитурой.)
Поскольку основной классический репертуар закреплен и временная дистанция, отделяющая дирижеров и оркестры от эпохи, когда была написана музыка, неуклонно растет, задача дирижера поддерживать музыку живой и жизнеспособной становится всё важнее. Однако если композитор присутствует на исполнении, всё возвращается в те времена, когда дирижер с композитором регулярно делили сцену и оркестровую яму. Проще говоря, когда композитор рядом, дирижер становится ассистентом. Когда нам говорят, что оркестр играет слишком быстро или что внутренний голос в оркестровке нуждается в прояснении, мы не протестуем, а просто выполняем необходимое.
Исключением стал случай, когда Барток постоянно прерывал Сергея Кусевицкого во время чтения с листа Концерта для оркестра (который, стоит добавить, заказал сам Кусевицкий). Дело было в конце ноября 1941 года. Барток сидел на балконе Симфони-холла в Бостоне. Бостонский симфонический приступил к произведению; виолончели и контрабасы начали с тихой мелодии. Вскоре вступили загадочные скрипки, вот только их перебил человек с балкона. Спустя минуту Кусевицкий начал снова — и опять удостоился исправления от композитора. Кусевицкий отпустил оркестр на перерыв, а когда музыканты вернулись, Барток уже был на полпути в гостиницу.
Когда композиторы слышат, как их музыку исполняют вживую, особенно перед мировой премьерой, они обычно ведут себя эмоционально, и наша задача — делать то, что они говорят, одновременно обозначая наши потребности в процессе подготовки. Некоторые композиторы, например Джанкарло Менотти, исключительно щедро сотрудничали с дирижерами. При этом Менотти был весьма требователен и хотел, чтобы его оперу «Сумасшедшая» исполняли в достаточно холодной и беспристрастной манере, хотя музыка, казалось, призывала к романтически страстному исполнению, характерному для начала XX века.
Миклош Рожа на склоне лет страдал от множества физических недугов. Он был частично парализован после инсультов и почти лишился зрения. Но его ум и слух оставались острыми. «Альты могут играть громче, когда у них основная тема», — сказал он, послушав, как оркестр «Голливудской чаши» исполняет его вальс из «Мадам Бовари» в 1993 году. Рожа, которому тогда было восемьдесят шесть лет, записал это произведение сорока пятью годами раньше на той же самой сцене (на площадке MGM, которая теперь принадлежит Sony). «Гонг громковат», — это был второй его комментарий. Через месяц я навестил композитора с готовой записью. После первого прослушивания он промолчал. Потом он попросил проиграть музыку еще раз, и снова последовала долгая пауза. Наконец он чуть повернул голову и, словно глядя в пространство, сказал: «Маэстро, можно вас поцеловать?»
Конечно, такие моменты приносят нам максимум удовлетворения. Рецензии и мнения других утрачивают всякую важность, когда дирижер слышит такое от композитора.
Пуччини сказал Тосканини, который дирижировал «Манон Леско» в «Ла Скала» на спектакле в честь двадцатипятилетия со дня премьеры: «Я не знал, что написал такую прекрасную оперу»[26]. Музыкант, который играл на английском рожке, вспоминал:
«Стоявший на подиуме Тосканини позвал Пуччини и попросил его посмотреть на гармонии в определенном месте партитуры, которые, по его мнению, были пустоватыми, чтобы тот высказал свои соображения, а еще лучше — чтобы послушал те изменения, что хотел внести дирижер. Пуччини ответил: „Нет необходимости. Если вы вставили сюда эти ноты, значит, они нужны“. Тосканини сказал: „Но оперу написали вы, а не я, и вы должны посмотреть, понравятся ли вам мои исправления“. Тосканини попросил оркестр сыграть эти ноты, вписанные карандашом, Пуччини очень внимательно их выслушал и потом сказал: „Benissimo! Я позвоню в издательство Casa Ricordi и скажу, чтобы они вставили это в партитуру“»[27].
Пьеру Монтё не так повезло с Игорем Стравинским. Когда в 1963 году восьмидесятивосьмилетний Монтё дирижировал «Весну священную» — стоит заметить, по памяти, — повторяя свой опыт полувековой давности на мировой премьере в Париже и на гастролях в Лондоне, Эрнст Фляйшман был директором Лондонского симфонического оркестра. Стравинский сидел вместе с Фляйшманом в седьмой ложе Ройал-Фестивал-холла, — это верхняя ложа, ближайшая к сцене с правой стороны. Композитору не понравилось, как Монтё интерпретировал его произведение, и, когда выступление закончилось, он встал, улыбаясь зрителям и посылая воздушные поцелуи Монтё, но при этом, как вспоминал Фляйшман, «говорил самые отвратительные вещи всем, кто мог его услышать».
У Леонарда Слаткина, кажется, был самый необычный опыт отношений с живым композитором. Он выучил невероятно сложную Симфонию для трех оркестров Элиота Картера для чикагской премьеры в 1984 году, и композитор пришел на генеральную репетицию. Слаткин был озабочен, потому что многие вещи просто не удавались: «Целые пассажи звучали неверно». Но после репетиции Картер сказал только одну вещь: что в одном месте виолончелям нужно быть «выразительнее». Из этого неожиданного свидетельства вытекает, что Картер не воспринимал на слух собственную музыку. «Тогда я был полностью уверен, что он написал не то, что услышал, — объясняет Слаткин в своей автобиографии. — Большинство композиторов, с которыми я работал, всегда хотели убедиться, что мы играем близко к написанному. Мистера Картера это, казалось, не волновало».
Дэвид Дель Тредичи нервничал перед премьерой монументального произведения «Июльский полдень золотой» по мотивам «Алисы в стране чудес» — не просто потому, что его работа исполнялась в Карнеги-холле, но и потому, что я тоже нервничал. С Джерри Голдсмитом и Элмером Бернстайном было очень легко. Они полностью понимали мои трудности, потому что сами часто дирижировали свою музыку — и не только для записи, но и на концертах. Говард Шор всегда вел себя по-джентльменски, оказывал поддержку, проявлял любознательность и принимал те выступления, где музыка звучала не так, как в записанном им саундтреке к трилогии «Властелин колец», если у него не было особых пожеланий.
Дэнни Эльфман пережил самую сильную трансформацию. Это композитор, который не дирижирует свою музыку, но следит за темпами, балансом в оркестре и общей картиной. Он никогда не выражал особенного желания услышать свои произведения в живом исполнении. Завершив работу над музыкой к фильму, он фиксировал ее в финальной отредактированной версии, и произведение таким образом сливалось с исполнением. На этом работа Эльфмана заканчивалась, и он переходил к сочинению следующего саундтрека. Потом, в 2013 году, он передумал и начал организовывать концерты со своими произведениями и участвовать в них. Он мало что предлагает в плане интерпретации, но всегда призывает не обращать внимания на темпы, использованные при записи саундтрека. Он узнал, как дирижер может освободить его музыку от рамок, наложенных записью: пусть мы играем те же ноты, но адаптируемся к акустической реальности концертной сцены, а не звукозаписывающей студии.
Стоит сразу сказать, что композиторы, которые были или остаются дирижерами, пишут музыку, лучше всего адаптированную для исполнения, потому что знают, как переводить воображаемое в практичную систему нотации. Поэтому дирижировать Мендельсона, Вагнера, Малера и Рихарда Штрауса обычно легче, чем Верди, Пуччини и Дебюсси. Пуччини лишь со временем научился переводить то, что он играл на фортепиано, в текст, необходимый дирижеру, поэтому от «Манон Леско» к «Богеме» и «Турандот» становится всё легче, хотя музыка не упрощается. Пуччини научился писать для дирижера, — возможно, поначалу ему даже не приходило это в голову.
С Бернстайном было ясно, что он пишет исполнимые, хотя и сложные, вещи. С 1973 года и до его смерти в 1990 году он доверял мне дирижировать свою музыку. Мои отношения с Бернстайном-композитором были самыми долгими и самыми близкими. Всё началось с «Мессы» на европейской премьере 1973 года в Вене с Йельским симфоническим оркестром и продолжилось спустя несколько месяцев «Кандидом», свежей постановкой мюзикла 1956 года. В этой версии использовалось абсолютно новое либретто Хью Уилера, ставил ее ведущий бродвейский режиссер Гарольд Принс, а Стивен Сондхайм был готов писать тексты по требованию. Меня назначили музыкальным руководителем — навязанного им двадцатисемилетнего паренька, при том что Бернстайн никак не участвовал в процессе. Он был доступен для телефонных переговоров, но отсутствовал на сцене вплоть до генеральной репетиции под фортепиано.
Мне предстояло разобраться со всеми нотами, которые Бернстайн написал для «Кандида» и которых хватило бы на два мюзикла. Также мне было поручено определить, куда пойдут разные куски и что именно стоит взять для новых текстов Сондхайма. Вероятно, эти обстоятельства (и я сам) были для остальных просто невыносимы. Тем не менее «Кандид» в итоге получил несколько премий Tony, в то время как мы с Бернстайном только начинали сотрудничать. По его просьбе я выступал с его музыкой в Тель-Авиве, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Нью-Йорке, Лондоне и Милане, а также в телевизионных передачах с международной трансляцией. Порой это оказывались премьеры.
Вот каким было дирижирование Бернстайном для Бернстайна: он критиковал, участвовал в процессе, поддерживал и проявлял гибкость. Когда я спросил, можно ли дирижировать финальную часть «Мессы» в семи долях, а не в переменном размере, который он использовал в записи, он сказал: «Почему нет?» Когда я по-новому оркестровал и сделал новую трехактную версию его оперы «Тихое место» в «Ла Скала», он сказал, уходя из театра во время репетиций: «Пока у тебя отлично получается». Обратите внимание: «пока». Да, легко никогда не было, однако весь процесс стал для меня потрясающей школой — подарком, который останется со мной всегда.
А еще мы много смеялись. Бернстайн был самым остроумным человеком из всех моих знакомых. Однажды я назвал продление последней доли в такте «еврейской слабой долей», потому что от него получается эффект, напоминающий о музыке, под которую танцуют на бар-мицве. (Еврей Отто Клемперер, когда его спросили об интерпретации Малера у Бернстайна, сказал, что она хороша, но «слишком уж еврейская».) В Вене, после представления «Мессы», на котором дирижировал я, Ленни сказал: «Ваши еврейские слабые доли стали определенно антисемитскими».
Однажды он решил дирижировать первую часть Симфонии № 3 Брамса в шести четвертях, а не в двух половинных с точками, как обычно делается. С помощью этого он хотел услышать внутренний ритм у альтов, который обычно незаметен: он действует как поток энергии, но остается скрытым для всех, кроме самих альтистов. Ленни хотел извлечь его на поверхность, чтобы мы узнали, как Брамс добился нужного эффекта в первой части. После представления он понял, что это была пиррова победа. «Я ошибся», — сказал он, смеясь. И больше никогда не дирижировал первую часть в шести четвертях.
Я находился рядом с ним в гримерной Метрополитен-оперы в 1972 году перед тем, как он должен был дирижировать «Кармен» в новой постановке. У меня до сих пор стоит перед глазами картина: моя жена Бетти болтает с миссис Онассис, а я помогаю Ленни надеть запонки Кусевицкого. Увидев, что он очень волнуется, я спрашиваю, как это может сделать только наивный двадцатишестилетний человек: «Вы нервничаете, да?» И он отвечает: «Конечно, я нервничаю, и хотел бы я знать, как мои коллеги умудряются не нервничать, думая о том, какая ответственность — дирижировать оперу». Эти моменты я не забуду никогда.
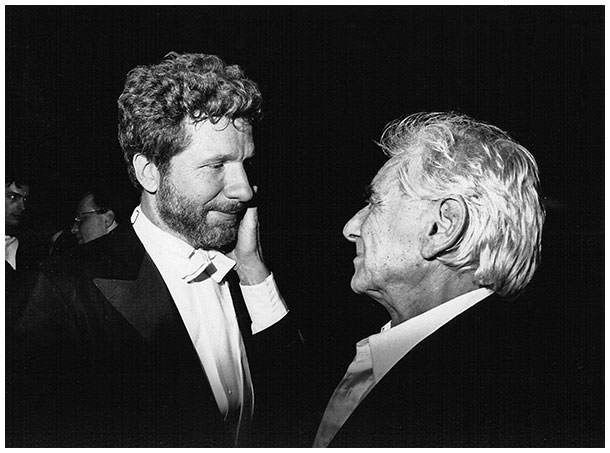
С Леонардом Бернстайном на премьере «Тихого места» 20 июня 1984 года в «Ла Скала»
Последний вечер, который наша семья провела вместе с Ленни, был счастливым стечением обстоятельств. В 1989-м мы с двенадцатилетним сыном Беном пришли на бродвейскую постановку «Трехгрошовой оперы» Курта Вайля, в которой играл Стинг. Это был благотворительный спектакль в пользу больных СПИДом детей, организованный актрисой Шинейд Кьюсак, женой Джереми Айронса, с которой я записал «Мою прекрасную леди». Ленни появился во время прелюдии и сел прямо перед нами. В первом антракте я спросил, знаком ли он с Джереми и Шинейд. Он ответил отрицательно, и я представил их друг другу. Во втором антракте я спросил, знаком ли он с Уте Лемпер, прекрасной эстрадной певицей из Германии, с которой мы записали много произведений Вайля в Берлине. Он сказал, что нет, — и я представил его Уте.
После выступления мы решили поужинать, и Ленни присоединился к нашей семье. Бен шел перед нами с Бетти, обняв Ленни за плечи. Оказалось, Бен уже его перерос. Я вдруг понял, что за восемнадцать лет Ленни познакомил нас почти со всеми известными людьми, которых мы знаем, — с Лорен Бэколл, Джеромом Роббинсом, Стивеном Сондхаймом, Аароном Коплендом, Бетти Комден, Адольфом Грином, Хэлом Принсом, Алвином Эйли, Стивеном Шварцем, — а в тот вечер я представил его трем знаменитостям. Солнце садилось; что-то значительное происходило прямо на моих глазах. Конечно, мы не могли предположить, что не пройдет и года, как нам позвонят и скажут, что Ленни ушел из жизни.
Если вам действительно посчастливится, такие вещи откроют вам дорогу в сердце чьей-то музыки. Я не Ганс Рихтер, дирижирующий Вагнера. Я не Бруно Вальтер, дирижирующий Малера. Но, открывая ноты Леонарда Бернстайна, я знаю немало деталей — многие тысячи деталей — и, возможно, пускаю их в ход, когда поднимаю руки перед оркестром. Я определенно на это надеюсь.
ОТНОШЕНИЯ С МУЗЫКАНТАМИ
В первых же отзывах о дирижерах XIX века и их отношениях с музыкантами мы читаем о двух противоположных методах, позволявших добиться величия: терроризировать музыкантов или вызывать у них любовь. В незаменимой книге Карла Бамбергера «Искусство дирижера» («The Conductor’s Art») описано, как итальянский композитор и дирижер Гаспаре Спонтини (1774–1851) блестяще проводил оперные представления в Берлине, став одним из первых маэстро, отказавшихся дирижировать, сидя за клавесином[28]. Он вставал лицом к оркестрантам, сидевшим спиной к сцене, вместе со своей палочкой становился «командным центром, и уважение, которое он вызывал у музыкантов, было огромным». С другой стороны, Карл Мария фон Вебер (1786–1826) добивался столь же прекрасных результатов в Дрездене и Праге, «скорее вдохновляя коллег, чем пугая их, как это делал Спонтини».
В ту же пору появилась и другая дихотомия — между высокоинтеллектуальным маэстро и страстным молодым смутьяном. Феликс Мендельсон (1809–1847) был богатым, утонченным и прекрасно образованным человеком с уникальной памятью и интересом к музыке других композиторов (а именно Баха, Генделя и Шуберта). Его уникальные качества, в том числе чувство меры, привели лейпцигский Гевандхауз-оркестр к мировой славе. Полной противоположностью был жилистый рыжеволосый Гектор Берлиоз (1803–1869), который давал великие, исторические представления, где смешивались буйство движений и ломающая традиции музыка, в большей степени опирающаяся на фантазии и эмоциональность, чем на классически сбалансированную структуру.
Если вы узнаёте качества современных дирижеров в описаниях этих великих маэстро, значит, вам абсолютно ясно, что никогда не существовало одного-единственного способа стать великим — разве что быть собой в увеличенном масштабе. Каждый из этих людей очень по-разному руководил музыкантами, и сегодня дирижеры так же по-разному добиваются успеха, взаимодействуя с оркестрами, хорами и солистами, хотя образ тирана — скорее имидж, чем реальность. Если дирижер и правда настоящий тиран, кто-то должен защищать его от гнева музыкантов: это может быть либо спонсор оркестра (государство, частный филантроп, совет директоров или сам дирижер), либо университетская система, предоставляющая пожизненное рабочее место. Рассказывают, что, когда дирижер-тиран Фриц Райнер отказался взять Чикагский симфонический оркестр на гастроли, музыканты повесили его чучело. Один из оркестрантов так описал опыт игры с Райнером: «Поверьте, перед концертом туалет пользовался большой популярностью».
Однажды я наблюдал, как прославленный преподаватель дирижирования, который учился в Германии в 1940-х годах и не снискал особого успеха как профессиональный музыкант, мучает американский студенческий оркестр. Этого я никогда не забуду. Он остановил студентов в середине репетиции, на которой играли симфонию Бетховена, и сказал: «Вы играете меццо-форте[29], а в нотах — пиано. [Пауза.] Почему вы играете меццо-форте, когда в нотах пиано? [Более долгая пауза.] Почему вы просто не играете форте? [Еще более долгая пауза.] Вы могли сыграть хотя бы меццо-пиано[30]? [Короткая пауза.] Но нет [уничижительная улыбка], вы играете меццо-форте — [кричит] хотя там написано: ПИАНО!»
Ощущение было такое, как будто я подглядываю за репетицией в 1840-х годах в провинциальном европейском городке. Всё время я думал только об одном: если ваши руки не показывают музыкантам, что надо играть тише, просто попросите их об этом. Студенты не возражали против такого поведения, а кто-то, может, счел случившееся хорошим уроком. Иные просто сидели с остекленевшими глазами, ожидая, когда им опять дадут команду играть.
Дирижирование неотделимо от партнерства. В конечном счете каждый великий дирижер связан с великим оркестром, и на базе этих отношений формируется нечто уникальное для обеих сторон. Мы ассоциируем Караяна с Берлинским и Венским оркестрами, но не вспоминаем о Караяне с Чикагским оркестром; ассоциируем Тосканини с Филадельфийским, Стоковского — с Симфоническим оркестром NBC, Ливайна — с Берлинским. Когда Джеймс Ливайн дебютировал в Метрополитен-опере с «Тоской» в 1971 году, случилась вещь, которую никто не мог бы предсказать: началось партнерство, продлившееся более сорока пяти лет. Для Георга Шолти такими оркестрами стали Венский и Чикагский.
Бывает и так, что великий дирижер появляется и сразу вызывает у оркестра антипатию. Рассказанная Леопольдом Стоковским история о том, как Мюнхенский оркестр ненавидел Малера в 1920-х годах, не единственный пример такого несовпадения. Телепродюсер Хамфри Бёртон запечатлел подобный момент в документальном фильме о репетициях Бернстайна с Симфоническим оркестром BBC в 1982 году. Фильм больно смотреть, потому что в нем показан кошмар дирижера — репетиция с оркестром, который сопротивляется и просто не хочет сотрудничать, в то время как всё это фиксируется на камеры.
Бернстайн готовится к исполнению вариаций на тему «Загадки» Элгара, одного из сокровищ британской классической музыки, которое знает каждый музыкант Симфонического оркестра ВВС. Он пытается репетировать с разными группами, и сначала быстрый пассаж играют одни виолончели, потом к ним присоединяется туба, а после Бернстайн переходит к другой группе. Музыканты смотрят на него как школьники на учителя, направленного в класс на замену, и явно не рады его видеть. В процессе репетиции, кажется, сходит на нет всякое взаимное уважение, и атмосфера становится ощутимо прохладной. В какой-то момент концертмейстер Родни Френд охает, и Ленни говорит: «Ладно, теперь послушаем, как не справляется кто-нибудь еще, например скрипки. Начинайте с цифры 51». Снова звучит «ох», и Бернштейн реагирует: «Мне дела нет до ваших охов. Выпрямитесь. Будьте капитаном. Вдохните. Ведите вперед ваши войска. Три, четыре!» Скрипки играют отрывок, заканчивая с явной фальшью. «Замечательно», — говорит Бернштейн. «Серьезно?» — спрашивает концертмейстер. Натянутые улыбки, ужасное напряжение — и всё происходящее запечатлено на пленку.
Представьте, если угодно, что это такое — в первый раз появиться перед симфоническим оркестром. На сцене может сидеть до ста музыкантов — людей, которые посвятили жизнь совершенствованию своего искусства и которые, по собственному желанию или вопреки ему, подавляют свою индивидуальность, принося ее в жертву более крупной сущности — оркестру. Это тяжелая и порой неблагодарная работа. Если вы играете на деревянных или медных духовых либо если вы первая скрипка, то у вас иногда есть возможность сыграть соло и таким образом показать свое мастерство. («Вы делаете andante, — сказал мне, двадцативосьмилетнему, покойный Джон Мак, в то время главный гобоист Кливлендского симфонического оркестра, — а я сделаю grazioso». Другими словами, я отвечал за темп, а он — за элегантно сыгранное соло.) Большая часть оркестрантов следует за лидерами групп и вместе создает великолепный звук симфонического оркестра, высшее проявление экспрессивности в западной музыке. В лучших оркестрах не отдыхает никто. Когда музыкант не играет, он слушает и поддерживает играющих коллег. Но сама анонимность этой работы порой заставляет их жертвовать собственной творческой индивидуальностью.
Как-то утром во вторник на репетицию пришел паренек, назначенный приглашенным дирижером на замену. Управляющий директор оркестра представил его примерно так: «Думаю, все вы понимаете, как трудно в последний момент найти кого-то вместо маэстро Йозефа Крипса, который не смог приехать из-за проблем со здоровьем. С радостью сообщаю, что на следующей неделе с нами будет [всем известный и многоуважаемый] Геннадий Рождественский! А сегодня к нам пришел Джон Мосери… Поприветствуем». После этого представления, которое говорит само за себя, я остался на сцене в павильоне Дороти Чендлер с сотней музыкантов Лос-Анджелесского филармонического. Это было в 1974 году. На пюпитрах у всех нас лежала «Весна священная». Оркестр посмотрел на меня и задался вопросом, как и почему дело дошло до такого. Чтобы не упустить момент, надо было соображать очень быстро. Помню, что я сказал: «Доброе утро. Давайте начнем с цифры 142».
Цифра 142 — финальный раздел знаменитого произведения Стравинского. Он называется «Великая священная пляска» (или «Избранница»). На этот раз роль избранника выпала мне. Я не видел смысла в том, чтобы Лос-Анджелесский филармонический оркестр играл всё произведение, раздумывая, хватит ли пороху у нового «маэстрика», который младше всех на сцене, чтобы пробиться через кульминацию признанно сложного оркестрового произведения. В этой части как будто подвергаешься тяжелым испытаниям: каждый шаг требует моментальной и точной реакции, и, если не справишься, вы вместе с оркестром упадете, и музыка, скорее всего, прекратится. Итак, мы начали. Когда мы добрались до конца без потерь, музыканты струнной секции помахали смычками (как бы говоря: «О’кей»), и я сказал: «А теперь вернемся к началу».
По каким-то неясным причинам Лос-Анджелесскому филармоническому приглянулось новое лицо. Некоторые музыканты стали приносить мне фрукты из своих садиков. Я получил предельно двусмысленную рецензию от Мартина Бернхаймера из Los Angeles Times: «Оркестр с новым дирижером играл хорошо. Трудно сказать, благодаря или вопреки его присутствию». Один оркестрант сказал мне, что это отличный отзыв. «Вы бы почитали, что он пишет о Зубине», — добавил он.
Все дирижеры постоянно проходят прослушивания, пусть мы и кажемся безусловными лидерами тех, к кому обращены лицом. С возрастом и ростом репутации появляются новые ожидания и сомнения. Просто не бывает никогда. Любой, кто знает, как прошли последние годы Караяна в Берлине и Сэйдзи Одзахавы в Бостоне, понимает, что даже в зените дирижерской карьеры психологические, политические и физические перемены не перестают на нее влиять. В конце концов, в нашей профессии остаются до смерти. По самой своей природе оркестры должны действовать слаженно. Отсюда также следует, что они ведут себя как племя, — и это порой тревожит, ведь их невозможно остановить, но порой восхищает и вызывает благоговение.
Как я говорил раньше, оркестры в Америке и кое-где в Европе сейчас играют важнейшую роль, когда принимаются решения, кого снова пригласить дирижировать, кто станет следующим музыкальным руководителем, а на кого наложат пожизненное вето. На оркестр влияет много конфликтующих факторов: соображения трудовой занятости, будущее организации, страх, гордость, желание получить вдохновляющего лидера и в некоторых случаях цинизм. («И это пройдет», — пробормотал как-то перкуссионист из известного оркестра, глядя на только что назначенного музыкального руководителя. Да только вот умер раньше, чем ушел не приглянувшийся ему дирижер.) Ситуация еще более усложняется по той причине, что приглашенному маэстро редко говорят, как улучшить положение дел. Обычно мы уходим с ощущением успеха. Оценочные ведомости порой говорят о другом.
Когда объявили, что в 1967 году Караян приедет в Метрополитен-оперу, чтобы сделать двойной дебют в качестве дирижера и режиссера-постановщика вагнеровского цикла «Кольцо нибелунга»,
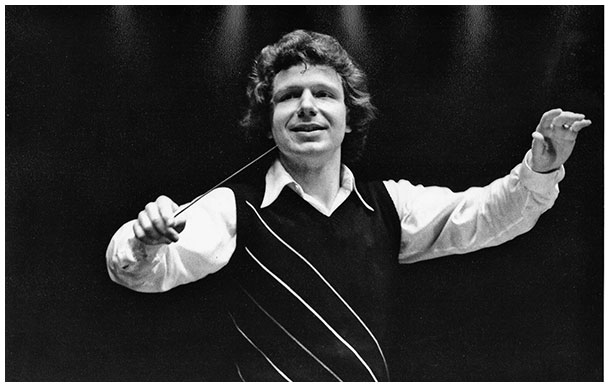
Мой портрет, снятый музыкантом Лос-Анджелесского филармонического оркестра в 1974 году
в оркестре пошли недовольные разговоры: ведь он вступил в нацистскую партию в 1933 году. Мой мудрый преподаватель дирижирования Густав Майер сказал, что как только Караян начнет репетиции, все поймут: он знает каждую ноту партитуры, и он великий музыкант. Тогда сопротивления не будет. Так оно и вышло.
Караян, однако, сделал еще более поразительную вещь, отплатив всем в Метрополитен-опере той же монетой. Поставив и продирижировав «Валькирию» в 1967 году, он вернулся в следующем сезоне для подготовки «Золота Рейна», но остальными операми в цикле заниматься не стал. Говорили, что оркестр оказался недостаточно хорош. У Метрополитен-оперы ушло еще пять лет, чтобы завершить караяновское «Кольцо» — без Караяна. Эрих Лайнсдорф дирижировал «Зигфрида» в 1972 году, а Рафаэль Кубелик возглавил «Гибель богов» в 1974-м, и при этом Караян фигурировал в программке как режиссер, хотя на самом деле Вольфганг Вебер репетировал с певцами и руководил освещением сцены.
В 1976 году я наблюдал подобную ситуацию, сложившуюся между дирижером и оркестром, с участием Карла Бёма, который, будучи на пятьдесят один год старше меня, дебютировал в опере Сан-Франциско в том же сезоне, что и я. Он занимался новой постановкой «Женщины без тени», но, хотя он считался одним из ведущих мировых специалистов по Рихарду Штраусу и даже дирижировал на официальном праздновании восьмидесятилетия Штрауса в нацистской Германии, оркестр был на взводе. Бём потребовал и получил огромное количество репетиций, на которых казался вечно раздраженным. Он почти не открывал рта, а когда всё же говорил, то на немецком; переводчик перегибался через ограждение оркестровой ямы и выкрикивал репетиционные цифры. Никаких отношений не сложилось, напряжение ощущалось физически, однако присутствовало явное уважение к Бёму как музыканту, и последовавшие выступления были прекрасными.
Можно ли простить артистов за их политическую деятельность — или они должны держать за нее ответ? Британцы первыми простили тех, кто поддерживал Третий рейх или подозревался в симпатиях. В результате Рихард Штраус, Кирстен Флагстад, Вильгельм Фуртвенглер, Герберт фон Караян и Элизабет Шварцкопф выступали и записывались в Лондоне после 1945 года.
Любые отношения, конечно, непредсказуемы. Музыканты Лос-Анджелесского филармонического оркестра очень любили мягкого и доброжелательного Карло Марию Джулини. Он как будто ненавидел указывать на ошибки и доверял способности оркестра находить и исправлять их самостоятельно. Однако во время репетиции «Моря» Дебюсси главный корнет-а-пистон сыграл фразу, которую Джулини не смог принять. После двух-трех повторений обнаружилось, что у музыканта в нотах было совсем не то, что у дирижера. Когда это выяснилось, Джулини извинился перед всеми за то, что не высказался раньше. Его скромность и досада на себя самого были невероятно искренними, и поступок, непозволительный для кого угодно другого, только усилил любовь оркестра.
Солисты вызывают у дирижеров похожие, но гораздо более индивидуальные сложности. Великие музыканты-инструменталисты зарабатывают на жизнь, переходя из оркестра в оркестр, от дирижера к дирижеру, переезжая из одной временной зоны в другую. Они готовы играть определенный набор произведений, который предлагают в текущем сезоне. Порой они в первый раз встречаются с дирижером на репетиции с оркестром, и у них нет времени, чтобы лично обсудить вопросы темпа или множество деталей, с которыми связано исполнение концерта. Иногда у солиста и дирижера бывают отдельные репетиции, и тогда сразу начинаются компромиссы.
Некоторые аспекты в интерпретации солиста чисто технические. Если дирижер слишком медленный, у скрипача может не остаться места на смычке; если слишком быстрый — пианист смажет пассаж; если маэстро не даст расслабиться на слабой доле, у сопрано не хватит дыхания в следующей фразе. По-настоящему великие артисты, конечно, могут приспособиться к разной скорости, но другие с полным на то правом будут играть концерт так, как его выучили, и у вас очень мало времени, чтобы узнать и запомнить это, прежде чем вы вместе с другими музыкантами окажетесь на сцене перед публикой.
Для многих американцев самый известный момент, когда занавес дружелюбия был сорван, случился 6 апреля 1962 года. Выдающийся и эксцентричный пианист Гленн Гульд резко не сошелся во мнениях с Леонардом Бернстайном, музыкальным руководителем Нью-Йоркского филармонического оркестра. Бернстайн и Гульд просто не смогли договориться, как исполнять Фортепианный концерт № 1 Брамса, и перед выступлением дирижер вышел к публике и произнес речь.
Записи с того вечера не осталось, но на следующий день, когда Бернстайн повторил свое необычное вступление, его записали. Вот что он сказал аудитории.
«Возникла любопытная ситуация, которая, я думаю, заслуживает пары слов. Сейчас вы услышите редкое и, скажем так, неортодоксальное исполнение Концерта ре минор Брамса. Исполнение, резко отличающееся от всех, которые я слышал и которые, если на то пошло, способен вообразить: с очень сильным разбросом в темпе и частыми отклонениями от указаний Брамса относительно динамики. Я не могу сказать, что полностью согласен с трактовкой мистера Гульда, и это вызывает интересный вопрос: зачем тогда я ее дирижирую? А дирижирую я ее потому, что мистер Гульд — настолько достойный музыкант, что я должен серьезно принимать всё, что он делает из искренней убежденности, и, как мне кажется, его концепция достаточно интересна, чтобы ее услышать.
Но извечный вопрос остается актуальным: кто отвечает за исполнение концерта — солист или дирижер? Конечно, порой один, порой другой, в зависимости от задействованных людей. Но почти всегда у этих двоих получается объединиться с помощью убеждения, обаяния или угроз и всё же выступить сообща. Только раз в жизни я принял абсолютно новую и несовместимую с моей трактовку солиста, и это был предыдущий раз, когда я аккомпанировал мистеру Гульду. [Громкий хохот в зале.] Но сейчас расхождения между нами так велики, что, мне кажется, нужно сделать эту небольшую оговорку. Повторюсь: почему же я сегодня дирижирую? Почему я не устраиваю скандал: не приглашаю солиста на замену, не даю дирижировать ассистенту? Потому что я зачарован, я рад возможности по-новому посмотреть на столь часто исполняемую вещь; потому что — и это еще важнее — в выступлениях мистера Гульда бывают моменты удивительной свежести и убедительности. Потому что все мы можем чему-то научиться у этого экстраординарного музыканта, этого умного исполнителя. И наконец, потому, что в музыке есть некий, как говорил Димитрис Митропулос, „спортивный элемент“ — это фактор любопытства, приключения, эксперимента, и я могу сказать, что совместная с мистером Гульдом работа над концертом Брамса была приключением. Сейчас мы представляем вам эту работу, это приключение».
Приведенный комментарий, хорошо известный многим музыкантам, в свое время вызвал немало шуму. Он честен и важен, потому что вопрос главенства, который мы рассмотрим ниже в этой книге, редко обсуждается на публике. Кодой к речи Бернстайна стала рецензия главного музыкального критика The New York Times Гарольда Шонберга, который был абсолютно безжалостен. Он предположил, что Гульду недостает техники, чтобы играть Брамса с нормальной скоростью. Вскоре после этого Гульд перестал выступать на сцене.
Солисты тоже с разной степенью готовности воспринимают чужую точку зрения, в зависимости от уважения к дирижеру и от собственного желания или потребности играть с ним и дальше, особенно если оркестр и дирижер базируются в крупном городе. В Нью-Хейвен приезжало немало мировых знаменитостей, чтобы сыграть там с симфоническим оркестром, однако они воспринимали город просто как перевалочный пункт где-то между Бостоном и Нью-Йорком. В таких случаях я как дирижер должен был быть внимательным и следовать за ними.
У солистов и дирижеров бывают замечательные моменты. Некоторые артисты не боятся смотреть прямо в глаза. А когда вы связаны взглядом и обращены друг к другу лицом и торсом, происходит нечто интенсивное и глубоко личное. Артист, который не готов «впустить» другого, никогда этого не достигнет. И дирижер, и солист должны разрешить себе, как кто-то однажды выразился, «сделать у другого перестановку».
Когда я профессионально дебютировал с Лос-Анджелесским филармоническим оркестром, моим солистом был Рудольф Серкин. Он выбрал последний концерт Бетховена, который еще называют «Император». Эту вещь он играл дольше, чем я жил на белом свете. Мы встретились на сцене павильона Дороти Чендлер с оркестром, готовым играть. До этого мне удалось поговорить с Серкином по телефону. Он был очень любезен и с готовностью оказал мне поддержку. Я признался, что не обладаю абсолютным слухом. «А значит, — перебил меня он, — вас беспокоит конец каденции, не так ли?» — «Да», — сказал я.
Это опасное место приходится на конец первой части. После длинного соло пианист начинает хроматическое движение вверх — по всем белым и черным клавишам, — завершая на ми-бемоль. Если дирижер промахнется и покажет вступление слишком рано, то получится столкновение разных гармоний. Если дирижер промахнется и даст сигнал слишком поздно, перед вступлением оркестра будет ужасная тишина. Проще говоря, всё должно пройти безупречно, если вы не промахнетесь на полтона. «Знаете что, — сказал Серкин непринужденно, — я начну хроматическую гамму, и, когда я улыбнусь, вы покажете затакт, и мы продолжим точно вместе».
Во время репетиции я порой предлагал оркестру какие-то вещи, например просил музыкантов задержать движение смычков, чтобы осталось больше места в конце фразы. Каждый раз, когда я говорил что-то, Серкин отрывал взгляд от клавиатуры, радостно смотрел на меня и кивал. Да! И когда мы дошли до мощной каденции и он начал пугающее хроматическое движение вверх, я смотрел на него. Через несколько октав он взглянул на меня и улыбнулся. Моя рука пошла вверх, а когда она опустилась, все мы оказались в ми-бемоль мажоре.
Зрительный контакт, как ничто другое, превращает солиста и дирижера в единое существо. Если вы видите солиста с закрытыми глазами, значит, на двери его души висит табличка: «Не беспокоить». На это бывает много причин, ведь тело и разум во время исполнения музыки находятся в состоянии сильнейшей концентрации. Некоторые неакадемические музыканты просто не знают, как пользоваться дирижером, и не привыкли иметь во время выступления партнера, который, по самой меньшей мере, их второй пилот. Вероятно, к этому надо привыкнуть.
Некоторые, например Гарт Брукс, Кристин Ченовет, Карлос Сантана и прекрасная исполнительница фаду Мариза, сразу это поняли. Джош Гробан, как и многие поп-певцы, обычно стоит близко к зрителям за дирижером — с наушниками на голове. Наушники позволяют ему слышать звук своего голоса и оркестр в «миксе», а еще добавляют реверберацию, и певец чувствует себя абсолютно комфортно, хотя и закрыт от настоящей акустической атмосферы на сцене. На репетиции единственной песни, с которой мы должны были выступать вместе, он сказал, что готов постараться стоять рядом со мной, чтобы мы могли общаться, — во многом как на классическом концерте. Но как только он вышел к зрителям, то немного развернул плечи в сторону от меня, пошел к публике и запел — и сначала я видел уголок его рта, а потом уже только затылок. В основном он пел с закрытыми глазами, иногда поглядывая на очарованных фанатов, — и места для дирижера не осталось. Поскольку музыка Гробана относительно проста, а стиль исполнения не требует ритмической точности, ситуация была приемлемой и для него, и для всех остальных.
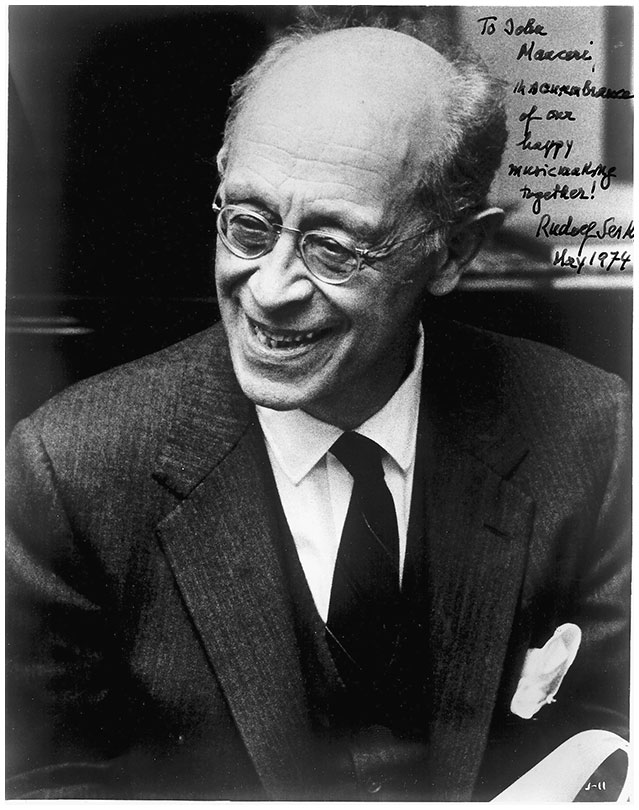
Фотография Рудольфа Серкина, присланная мне после моего профессионального дирижерского дебюта
Телережиссеры редко понимают, что классическим певцам крайне важно не терять контакта с их дирижером. В начале моей карьеры я дирижировал для Леонтины Прайс на церемонии вручения наград Кеннеди-центра. Она пела арию «Vissi d’arte» («Я жила для искусства…») из «Тоски» Пуччини. Режиссер поставил Леонтину в трех метрах позади меня, чтобы получить хорошие ракурсы. Я сказал, что это сделает синхронизацию невозможной. Он ответил, что руководил съемкой Перри Комо, популярного шансонье 1950-х годов, «у которого был совсем слабый голосок, в отличие от мисс Прайс», и что его дирижер ни на что не жаловался.
Я храбро попытался объяснить, что певец, исполняющий вещи в одном темпе с небольшим оркестром, и солистка, которая играет с фразами, опираясь на фоновые гармонии и ритмы, не одно и то же. «Я вполне уверен, что мы с мадам Прайс можем сделать „Vis?“, но как справиться с „-si“, не говоря уже о „d’arte“? Каждый из слогов положен на разные гармонии, которые отражают слова и музыку. И всё это должно слиться в единое целое, в отличие от случая с мистером Комо, который мог менять динамику на фоне устойчивого ритма у оркестра». Режиссер молча уставился на меня и покачал головой, задаваясь вопросом, как его угораздило оказаться в связке с этим назойливым дирижером. И я его понимаю. Моей задачей было решить проблему, созданную его потребностью сделать впечатляющее телешоу, а не заставить его понять, чем я недоволен. А недовольство это было вызвано страхом потерпеть профессиональную неудачу в сложившихся обстоятельствах.
Похожая ситуация была у меня на церемонии «Grammy». Меня попросили дирижировать «Гранаду» с Пласидо Доминго. И снова телевизионный режиссер (на этот раз в Лос-Анджелесе) хотел, чтобы Доминго стоял на переднем плане за моей спиной. Вроде бы в этом не было проблемы, потому что у «Гранады» относительно фиксированный ритм. Кроме того, у нее есть вокальное вступление в гибком и свободном темпе. Но я не мог отвернуться от оркестра и следить за тем, как Доминго берет дыхание. Однако после окончания вступления у оркестра идет пассаж, который подводит к самой песне. Я спросил, как Доминго хочет с этим обойтись: можно было либо продолжать в том же темпе, либо, после оркестровой части, дождаться, пока я не услышу «Гра?» и вступить с оркестром на «-нада». «Джон, пожалуйста, продолжайте в том же темпе», — сказал Доминго.
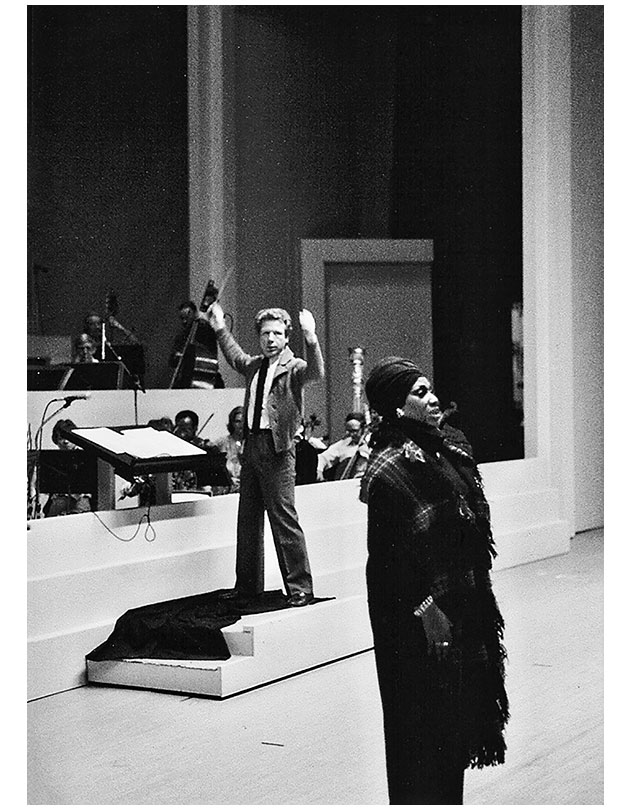
Я репетирую с Леонтиной Прайс для телевизионной трансляции в 1981 году и по понятным причинам выгляжу обеспокоенным
Может, он забыл о нашей договоренности, а может, оглушительный рев толпы был таким громким, что оркестра он не услышал. В результате неудача, которой я боялся, выступая с Леонтиной, реализовалась с Пласидо. Я продолжал в том же темпе, а он ждал. Камера показывала лицо Доминго очень крупным планом, и телезрители увидели, как он резко повернул голову к оркестру, подхватил на сильной доле и запел песню, которую я теперь называю «Нада». Каждый раз, когда мы видимся, в его взгляде явно читается отношение к затакту и к пропавшей «Гра?». Мне до сих пор так стыдно, что я никогда об этом не заговариваю. С учетом всех факторов виноватым я считаю себя, потому что должен был подготовиться к такому варианту — и не подготовился.
Визуальный контакт, как я уже говорил, это всегда ключ к успешному партнерству. Опыт с Концертом для скрипки Чайковского в «Голливудской чаше» с великим израильским виртуозом Гилом Шахамом, который стоял, развернувшись прямо ко мне, стал незабываемым. (Как известно, он делает так с каждым дирижером.) Могу лишь вообразить, что это похоже на ощущения пары танцоров, которые безупречно исполняют танго.
Хоровым дирижерам обычно неудобно стоять лицом к оркестру, потому что их подготовка во многом ориентирована на создание слитного, смешанного звука человеческих голосов, а не на уверенное взаимодействие с инструменталистами. Любительские хоры репетируют по многу часов — часто месяцами по разу в неделю, — в то время как профессиональные хоры больше похожи на профессиональные оркестры способностью читать с листа и выступать после нескольких часов репетиций. Хоровые дирижеры обязательно артикулируют слова текста, поощряя прямой визуальный контакт с певцами, в то время как у оркестров нет связующих слов в нотах, и музыканты смотрят на дирижера под разными углами. Хоровым дирижерам часто приходится мириться с тем фактом, что они готовят хор для дирижера оркестра, и порой им кланяются в конце выступления, которое они не дирижировали.
Опыт дирижерской работы с произведениями, для которых требуется хор, меняет нашу манеру двигаться и направление внимания: хор обычно занимает первое место. Между хором и маэстро устанавливается уникальная связь, потому что мы, дирижеры, смотрим в глаза хористам, артикулируем слова и дышим музыкой, но звук идет к нам, а не от нас. Эта алхимия человеческих голосов, сливающихся с симфоническим оркестром и вместе с ним реагирующих на мысли и движения дирижера, имеет интуитивную природу, и познать ее — неповторимый, волнующий и важный опыт.
Когда нужно дирижировать оперу и выстраивать отношения с солистами на сцене, сложность выходит на новый уровень по сравнению с ситуацией, когда у вас на сцене только один солист или хор. Перед оперными певцами, этими великими артистами, стоит одна из самых трудных задач в классической музыке. Мало того, что их инструмент — собственное тело: они должны запоминать чрезвычайно сложные слова и музыку, выступать в костюмах, двигаться по сцене, занимая определенные позиции, а еще создавать достаточно правдоподобный образ. Режиссеры-постановщики могут потребовать, чтобы певцы принимали неудобные позы, которые к тому же иногда мешают смотреть на дирижера в оркестровой яме или на многочисленные телевизионные мониторы, скрытые от публики (или на суфлера, который есть в отдельных больших театрах: он действует как страховка для связи между сценой и оркестровой ямой).
Прежде всего оперный дирижер должен уметь интуитивно приспосабливаться к манере брать дыхание, индивидуальной у каждого певца: к тому, сколько времени требуется для вдоха и сколько нужно для исполнения каждой фразы и подготовки к новой. Чтобы оставаться на одной волне с певцами, дирижеру нужно дышать вместе с ними. В прошлом многие великие дирижеры выходили из оперных театров, где начинали в качестве вокальных педагогов и аккомпаниаторов. В маленьких репетиционных помещениях они заранее изучали нужды певцов. Эта традиция, которая в целом уже ушла в прошлое, продолжилась с Джеймсом Ливайном в Метрополитен-опере, Рикардо Мути в «Ла Скала» и Антонио Паппано в Лондонской королевской опере. Каждый из них мог работать напрямую с отдельными певцами без необходимости в третьем участнике, который играл бы на фортепиано.
Отношения с оперными певцами оказываются настолько сложными, потому что каждый из них получает лишь определенный процент сосредоточенного внимания дирижера, у которого есть много солистов, хор и оркестр: им всем надо уделять внимание. Всегда необходимы музыкальные репетиции, отдельные от постановочных, а в идеале — репетиции наедине с каждым певцом, однако обычно это невозможно. В зависимости от оперного театра, уважения к дирижеру, стандартности или необычности произведения и новизны постановки предварительная работа маэстро с певцами может быть очень разной. Я и дирижировал постановки без репетиций, и репетировал оперы по семь недель.
Чтобы дать вам представление о сложности процесса, возьмем одну арию — «In questa reggia» («В столице этой») из «Турандот». Сопрано, играющая принцессу Турандот, стоит на вершине величественной лестницы и смотрит вперед. Наверное, это не очевидно, но между ней и дирижером — огромное расстояние. Можно поддерживать зрительный контакт, вот только из-за перспективы вся она кажется размером с вашу ладонь.
Конечно же, она будет наряжена в великолепный костюм с богато украшенным головным убором. Подол ее струящегося платья заботливо разложат на возвышении статисты. Публика с большим нетерпением ждет этой арии. Воздух наэлектризован. То, что произойдет сейчас, — судьбоносный момент для сопрано, которая — хотя мы находимся в середине второго акта — еще не спела ни одной ноты и лишь ненадолго показывалась в предыдущем акте, когда делала царственный жест, подтверждая казнь персидского принца. Там она выглядит величественной, властной и полностью контролирующей ситуацию.
Здесь происходит нечто совершенно другое. Сопрано — любое сопрано — будет нервничать из-за важности момента. Чтобы вступить, ей нужно найти гармонию в аккорде ре мажор, помеченном как «тихо». Его играют две флейты и валторна с сурдиной, а перкуссионист один раз бьет в подвешенную тарелку (тоже в пиано), и это придает западной гармонии китайский колорит.
Посмотрите, что нужно сделать дирижеру и сопрано. Дирижер ждет, пока сопрано окажется наверху лестницы. Он обращает всё внимание на нее и излучает уверенность. Тихая медленная слабая доля вводит аккорд ре мажор, который играют четыре музыканта, сидящих в яме не рядом друг с другом. (Флейты, конечно, находятся вместе, но валторна может оказаться с другой стороны или позади них через несколько рядов — в зависимости от размера и формы оркестровой ямы. Перкуссионист, вероятнее всего, будет сидеть на большом расстоянии от флейт и валторны.) Маэстро смотрит на четырех музыкантов, его рука идет вверх, и вот в конце сильной доли начинается аккорд. Он должен зазвучать одновременно, что достигается благодаря опыту и силе воли четырех инструменталистов, которые понимают намерение дирижера и в соответствии с ним берут дыхание и создают звук: одна флейта играет ля, другая — фа-диез снизу, а валторна — ре еще ниже. На валторне звук извлекается совсем не так, как на флейте. Флейтист выпускает струю воздуха над отверстием в головке инструмента, примерно так, как извлекают звук из бутылки колы. Играя на валторне, музыкант дует в мундштук через сжатые губы. Валторнист уже выбрал длину металлической трубки, нажав на один из клапанов, и, регулируя подачу воздуха, выдает верную ноту — ре — точно в тот же момент, что и две флейты. Перкуссионист играет на тарелке именно так, как вы себе представляете, — бьет по ней. Но в нотах Пуччини указано, что музыкант должен использовать колотушку, которую обычно берут для литавр, чтобы создать особенный звук. Музыкант не просто бьет по тарелке. Делая удар колотушкой, он оттягивает запястье в сторону от инструмента, как будто вынимая звук из сплава меди, олова и чуточки серебра. Диаметр тарелки заранее выбран перкуссионистом, хотя дирижер мог попросить сделать звук выше или ниже, чтобы окрасить ре-мажорный аккорд так, как, по его мнению, хотел Пуччини.
Сопрано в этот момент находится максимально далеко от зрителей и от оркестровой ямы, чего не бывает ни в одной другой оперной постановке. Аккорд ре мажор звучит очень далеко от нее, и, начав петь, она уже не услышит гармонии внизу. Дирижер остается ее единственной опорой. Он смотрит на ее губы, но слышит лишь отдельные отрывки ее арии; что он слышит, зависит от свойств ее голоса и акустики помещения. В любом случае голос звучит изо рта сопрано, а уши дирижера находится приблизительно на уровне сцены внизу.
Ария продолжается, и сопрано, вживаясь в движения китайской принцессы XV века, рассказывает историю ужасного изнасилования ее бабушки, принцессы Лоу-Линь. Пуччини просит время от времени расслаблять темп, чтобы солистка могла рассказать трагическую историю со сдерживаемым гневом, парящим над невыносимой печалью и, как мы узнаем из следующего акта, страхом, потому что она понимает с первого взгляда: мужчина, которому она поет, покорит ее любовью.
Как дирижеру помочь передать эту пронизывающую печаль? Ответ в звучании аккомпанемента, когда Турандот произносит «Pincipessa Lo-u-Ling» («Принцесса Лоу-Линь») и тихо вступают струнные с сурдинами. В зависимости от того, как дирижер исполнит их волнообразное движение, представление о страдании Турандот сделает ее подтекст понятным: Пуччини говорит, что во время арии она невероятно холодна и величественна. Оркестр сообщает нам посредством окраски звука и повторяющихся фигураций, кто она такая на самом деле, — даже когда Турандот устраивает страшный спектакль для последнего кавалера, а сопрано, исполняющая эту роль, управляет голосом с удаленного возвышения над сценой.
В первую же минуту этой арии, всё еще стоя на вершине лестницы, сопрано сталкивается с серией технических трудностей. Пуччини и его либреттисты дали ей много слов и быстрых нот для исполнения: «E sfidasti inflessibile e sicura l’aspro dominio» («И бросила вызов, несгибаемая и бесстрашная, горькому владычеству [мужчины]»). Пуччини указывает дирижеру, что нужно сделать небольшое замедление, а сопрано должна преодолеть быстрые ноты и подъем к соль, после чего сделать рискованный скачок вниз больше чем на октаву — на фа, когда идут слова «l’aspro dominio» («горькое владычество»). Некоторые сопрано берут дыхание после «inflessibile», а другие, если могут, идут вперед и быстро вдыхают на «sicura»; а потом все сопрано еще раз делают вдох, чтобы взять низкие ноты «l’aspro dominio», где Пуччини тоже сделал акцент на каждую ноту. Всегда может случиться, что сопрано будет дышать не так, как на репетициях, и даже не так, как на генеральной репетиции или на предыдущем спектакле: это зависит от того, как она чувствует себя сегодня.
Сложность для сопрано состоит в том, что ей нельзя слишком долго использовать нижний регистр, потому что в конце арии придется исполнить высокую си в фортиссимо, а потом финальную до над оркестром, играющим в полную мощь. Если в начале арии играют три деревянных духовых инструмента и тарелка, то в конце — более восьмидесяти музыкантов. Дирижер должен понимать, сколько грудного регистра ей хватит в конкретный момент, и придержать струнные аккорды, чтобы ее было слышно. Весьма удивительно, что он делает всё это, читая по ее губам и наблюдая за дыханием, одновременно артикулируя ее слова и имитируя ее дыхание. Дирижер должен стать Турандот не только ради сопрано, но и ради оркестра, который наблюдает за ним и его поведением. Даже те исполнительницы роли Турандот, что обладают самыми мощными в мире голосами, бывают едва слышны из-за требований либретто и оркестровки Пуччини.
Великолепие этого процесса для дирижера заключается в мощнейшем ощущении контроля над нарративом, который начинается с тишины, проходит через печаль, потом гнев и, наконец, триумфальный вызов. Существуя в юнгианской всеобщности, все мы на сцене и в оркестровой яме как бы заявляем: мы — певица, мы — персонаж, но мы знаем больше, чем известно Турандот о себе, и посылаем это знание аудитории. Мы воспаряем вместе с ней выше и выше до тех пор, пока тенор не присоединится к ней на высоком до, доказывая, что достоин ее; а затем мы подключаем хор, который врывается ближе к концу арии. Дирижер, не произнеся ни звука, успешно проводит корабль через опасный пролив, а потом, почти не передохнув, двигается дальше к драматичной сцене загадки, которая определит судьбу главных героев.
Мы, дирижеры, порой бываем невидимыми персонажами оперы или мюзикла. Это особенно справедливо в случае с Бернадетт Питерс в мюзикле «Песня и танец» Эндрю Ллойда Уэбера, где она находилась на сцене в одиночестве в течение всего первого акта. В разное время я был человеком, с которым она говорила, о котором она говорила, ее внутренним «я» и в отдельных случаях реакцией аудитории на ее персонажа. То же происходило и с Ренатой Скотто в «Человеческом голосе» Пуленка. И она была на сцене одна с монологом: никаких партнеров, кроме дирижера.
Если дирижировать оперу — пугающая и одновременно прекрасная задача, то дирижировать балет, возможно, так же сложно, только приносит гораздо меньше удовлетворения и совсем не ценится публикой. Если вы дирижируете оперу, вам прежде всего необходимо понимать физические потребности поющего, а вот дирижирование балета тесно связано с индивидуальными способностями артистов исполнять и проживать предложенную им хореографию. Да, движения обычно не меняются от одного «Лебединого озера» к другому. Но вместо того чтобы имитировать дыхание певца, балетный дирижер должен следить за тем, как ноги танцоров совершают эти движения. Нет двух людей, которые танцевали бы с одинаковой скоростью, а рассказать о своих потребностях им трудно — особенно во время танца. Потребности певца всегда можно понять интуитивно по тому, как он поет. Если танцоры почувствуют, что темп слишком высокий или низкий, их мышечные реакции начнут проявляться еще до того, как закончится пассаж. Другими словами, танцоры замедлятся или ускорятся слишком поздно. Выдающийся балетный дирижер должен соединить невидимую форму искусства — музыку — с неслышимой формой искусства — балетом.
Танцоров больше не учат в первую очередь музыке, и хореографов, строго говоря, тоже. Фотографии Мориса Равеля и Вацлава Нижинского за фортепиано сегодня кажутся поразительными, поскольку Нижинский не просто играет верхнюю часть (в конце концов, Равель был концертирующим пианистом): его левая рука пересекается с правой, что демонстрирует весьма продвинутое владение инструментом. В России и Европе все танцоры и хореографы получали музыкальную подготовку.
Это было справедливо и для Джорджа Баланчина, который мог обсуждать свою работу со Стравинским в терминах нотированной музыки, а не на жаргоне, что сейчас используют музыкально неграмотные танцоры и их хореографы («Начнем с пятой группы четверок», «Попробуем с двенадцатого счета» — или более изобретательно: «Вернемся к грибам», «Сразу после прыжков „ноги вместе, ноги врозь“»). Танцоры учат шаги и приобретают уверенность в движениях на репетициях без оркестра. А пианист учит названия разделов и переходит в нужное место клавира. Если концертмейстера нет на репетициях, то техник переходит к фрагменту записи, который, как он знает, называется «грибы» или «ноги вместе, ноги врозь», но на самом деле это, например, отметка «4:32» в четвертом треке записи, под которую ставят хореографию.
Когда танец отрепетирован в зале и исполняется с живым оркестром, дирижеру приходится следить за невероятно сложной серией движений, чтобы понять, правильный ли темп он дает для демонстрации танцоров в максимально выгодном свете. Некоторые великие танцоры несколько опережают ритм, в то время как другие опаздывают. Танец с опережением обычно демонстрирует аудитории отсутствие синхронности с оркестром. Танец точно в такт создает ощущение мощи, а танец с некоторым опозданием — ощущение невесомости.

Вацлав Нижинский (слева) и Морис Равель играют «Дафниса и Хлою» в 1912 году
Во время дирижирования балета у маэстро есть огромное преимущество по сравнению с ситуацией, когда он дирижирует оперу: его глаза находятся на уровне сцены, и он смотрит прямо на то, что дает самую важную информацию, — на ноги танцора. В опере голоса певцов, их дыхание и поддерживающий аппарат находятся в полутора метрах над нашими головами — если солисты стоят на плоской сцене. Чем ближе певец приближается к ее краю, тем выше приходится задирать голову, чтобы увидеть его рот.
Балетмейстер будет настаивать на определенных жестко заданных темпах для кордебалета, который часто движется синхронно. Однако для соло или па-де-де задача окажется невероятно сложной. Многие балетные труппы едва ли могут позволить себе живую музыку, и поэтому репетиций с оркестром у них обычно прискорбно мало, даже в случае с самой сложной музыкой и хореографией. На большинстве репетиций труппа танцует либо под фортепиано — и мастерство пианиста играет огромную роль в подготовке к оркестровой работе, — либо под запись. Дирижер, начинающий работу с живым оркестром, должен найти способ сымитировать темпы в записи. Порой это выматывающее, опустошающее занятие, похожее на аккомпанирование фильму в попытке воссоздать точный темп саундтрека. Если дирижер не присутствует в зале во время создания балета (что непрактично, потому что на сочинение и заучивание движений уходит много часов репетиций), то имеет дело со свершившимся фактом.
Великолепные танцоры балета — люди одновременно героические и ранимые. Им легко причинить вред, если взять неподходящий темп. Любой, кому хватает смелости дирижировать балет, — тоже герой, причем в еще большей степени, потому что на самом деле маэстро крайне мало понимают в создании великой иллюзии победы над гравитацией через движения и точно синхронизированный звук. Мало кто в аудитории имеет представление о том, как это невероятно сложно, и, когда результат оказывается хорош, всё восхищение, любовь и, что тут говорить, преклонение достаются танцорам. Дирижер всегда выглядит неловко и неэлегантно, когда выходит на сцену в конце представления в окружении физически красивых и атлетичных артистов. Обычно он делает поклон, обливаясь потом, и указывает на оркестровую яму, где музыканты уже пакуют инструменты или просто направляются к выходу.
С учетом вышесказанного вы можете спросить, что происходит, когда маэстро делает ошибку. Хотя в искусстве дирижера много неопределенности, ошибка — та, которую признает настоящей ошибкой любой, выступающий под началом дирижера, — случается, когда маэстро показывает неверное число долей в такте либо дает сигнал певцу или инструменталисту вступить не в том месте. В обеих ситуациях оркестр должен делать выбор: следовать за лидером или сопротивляться. Это решение принимается за долю секунды — причем принимается музыкантами, действующими как единое целое. В противном случае наступает музыкальный хаос, и всем приходится решать, как двигаться дальше. В большинстве случаев это удается.
Если дирижер допускает ошибку, она остается несмываемым пятном на его совести. Она непростительна, потому что важнейшая часть его работы — правильно отбивать такт — оказывается невыполненной. Маэстро оказался недостоин своих музыкантов и создал ту самую неуверенность, от которой должен был их избавить.
Сэр Адриан Боулт (1889–1983) остановился посередине мировой премьеры Симфонии № 2 Майкла Типпетта в 1958 году, которая транслировалась на ВВС: он неправильно показал такт через несколько минут после начала первой части. Моментом позже все услышали голос дирижера: «Только моя ошибка, дамы и господа». Мало у кого из дирижеров хватит мужества на такую честность. Тосканини потерялся во время прямой трансляции «Вакханалии» из «Тангейзера» на ВВС 4 апреля 1954 года, и выступление Симфонического оркестра NBC стало разваливаться у него на глазах. После концерта он ушел со сцены и больше уже не возвращался на подиум.
С другой стороны, когда артист делает ошибку, задача дирижера — как можно скорее выправить курс корабля. Чаще всего это происходит с оперными певцами. У них больше одновременных задач, чем у любого другого: они должны заучивать роли, запоминать позиции на сцене, играть в костюмах, а их тела — это инструменты, потому они всё время сознают свое физическое состояние, готовясь воспарить над оркестром и потрясти нас мастерством и артистизмом. Дирижеры заучивают серию движений ладонями и руками, чтобы предупреждать певцов и проводить их через моменты, когда могут возникнуть трудности с запоминанием их партии. Но если происходит неожиданная ошибка, всё внимание дирижера обращается на артиста, попавшего в трудную ситуацию. Это удивительно интимные моменты, которые приносят массу удовлетворения. Не произнося ни слова, находясь далеко от сцены, маэстро воздействует на ситуацию и уверенно возвращает артиста в строй.
Но порой дирижеру бывают нужны сверхчеловеческие силы, чтобы свести всех вместе, — и ни один курс дирижирования не подготовит вас к таким моментам. Они возникают безо всякого предупреждения и ставят выступление под угрозу. В 1973 году, когда я дирижировал «Святую с Бликер-стрит» Джанкарло Менотти в национальном парке сценических искусств «Вулф-Трэп» — а это была моя первая опера, — произошла именно такая вещь. Ближе к концу первого акта группа певцов и музыкантов вступает с гимном за кулисами, а потом медленно выходит на сцену, где в этот момент поют солисты. Дирижер показывает знак группе, глядя на телеэкран, а ассистент дирижера передает ей ритм. Выйдя на сцену, музыканты переводят внимание на дирижера в оркестровой яме.
В тот вечер, когда в зале к тому же присутствовал композитор, ассистент дирижера не увидел моего сигнала, потому что перед экраном стоял артист миманса. Запаниковав, он вступил с ансамблем и певцами на такт позже. Конечно, он не мог слышать, что происходило на сцене, поскольку инструменты и певцы под его началом были очень громкими.
Когда процессия оказалась на сцене и я это услышал, то понял, что появившаяся группа отстает на такт и что мы не сможем продолжать до конца акта, если две главные силы — ансамбль с хором на сцене и солисты с оркестром — будут оставаться в разных местах. Мне следовало действовать быстро и учесть все возможности. Я продолжал дирижировать, а какая-то часть мозга «перематывала» остаток акта вперед, чтобы взвесить варианты. Оказалось, что вариантов нет; представление могло спасти только что-то неожиданное.
Я повернулся к женщине-концертмейстеру и сказал: «Надо добавить такт». — «Что?» — спросила она. Тогда я повторил громче: «Надо добавить такт!» Затем я повернулся к деревянным и медным духовым, которые сидели справа от меня, и, продолжая показывать ритм струнным (они были слева), мощным жестом вытянул правую руку, как это делают регулировщики движения. Рука двигалась, как будто я останавливал фуру. Так я задержал духовые на четыре доли, пока струнные и ансамбль на сцене продолжали играть. Потом я повернулся к струнным и повторил этот жест: деревянные и медные духовые, которые теперь были синхронизированы со сценой, продолжали играть, а струнные остановились на четыре доли. За двенадцать секунд все оказались в одном месте, и так мы закончили первый акт. Я вышел измученным и словно в тумане, переоделся в сухую рубашку и приготовился спуститься в яму ко второму акту. Это было моим настоящим профессиональным дебютом. Так я стал дирижером.
ОТНОШЕНИЯ C ПУБЛИКОЙ
Если сравнивать публику с менеджерами, друзьями, коллегами и близкими, она кажется искреннее всех. Она не скрывает своих истинных чувств, и не только в конце выступления. Так же, как оркестр и солисты, публика — наш партнер. Удовлетворить ее — конечная цель работы, которую мы делаем со всеми выступающими музыкантами. Мы, дирижеры, становимся проводниками от источника — музыки — к людям, которые, как мы надеемся, примут и поймут произведение, а в идеале станут участниками исполнения. Одно дело, когда непонятый или непринятый композитор говорит о своей музыке: «Мое время еще придет». Этот подход совершенно не работает в случае дирижера. Мы или добиваемся своих целей прямо сейчас, или терпим неудачу. Мы переводчики, а не авторы. Но между работой переводчика, скажем, «Одиссеи» и дирижера Девятой симфонии Бетховена есть разница: желающим прочесть «Одиссею» доступно много переводов, а Девятая симфония существует, только когда ее исполняют (о записях мы поговорим отдельно).
Дирижер чувствует аудиторию еще до того, как выходит на сцену или спускается в оркестровую яму. Энергия в помещении — рассеянность, концентрация, сонливость, нетрезвость, предвкушение или отсутствие всяких эмоций — ощущается из-за кулис. Есть причины, если это, конечно, подходящее слово, почему зрители испытывают возбуждение перед выступлением. Когда должно произойти нечто особенное и долгожданное, публика об этом знает, и все присутствующие подпитываются предвкушением. Интересно, что порой само выступление как будто имеет второстепенное значение — становится просто подкреплением для коллективной энергии, которая появляется раньше, чем зазвучит музыка, сохраняется во время выступления и остается в умах и сердцах после него — а порой даже увеличивается в последующие годы. Все, кто посетил прощальные концерты Марии Каллас с тенором Джузеппе Ди Стефано, прекрасно знают, что я имею в виду.
К 1974 году Каллас была уже почти не Каллас, ее диапазон уменьшился, вибрато в верхнем регистре превратилось в дрожание, а звук стал мутным и закрытым. Но время от времени что-то прорывалось: вспышка пламени в ее глазах, трогательный жест, безупречная фраза, — и пробуждались воспоминания о временах, когда она была великой (а ее зрители — молодыми). Уважение, печаль, ощущение смертности, любопытство и желание остановить неизбежное подпитывали эмоции публики во время выступлений и каждый вечер поддерживали Каллас на плаву. Порой казалось, что публика отдает ей все свои силы, чтобы она могла продолжать, и, вероятно, так оно и происходило.
Дирижеры обычно не получают такого жаркого преклонения. Фанаты порой бывают у только что открытого молодого и страстного дарования. Мало кто хочет обзавестись фан-клубом, однако это можно организовать с помощью маркетинга и пиара. В классической музыке очень мало суперзвезд, и из-за ее «серьезной» природы фан-клубы дирижеров кажутся несколько неуместными. В целом считается, что наша жизнь не соприкасается с обыденной реальностью.
Хотя Тосканини понимал, что такое имидж и маркетинг, тщательно следил за своей внешностью («Он выглядел как фарфоровая кукла», — сказала о нем однажды моя тетя Роуз) и появлялся на телеэкранах, он открыто насмехался над Стоковским (называя его «il Pagliaccio» — «клоун») за то, что тот удешевляет образ дирижера, снимаясь в кино. Тосканини явно считал, что телевидение и радио отвечают хорошему вкусу, а кино — нет.
Караян всегда репетировал в черной водолазке. Приподнятые гелем серебристые волосы придавали ему вид человека, стоящего лицом к ветру. Родни Гринберг, который был режиссером прямой трансляции Девятой симфонии Бетховена из Белинской филармонии 1 января 1978 года, написал: «Из мероприятия с Караяном мне запомнился тот факт, что по расписанию он уже стоял на подиуме за час до начала трансляции, и режиссер по свету устанавливал лампы под нужными углами, чтобы как можно точнее и выгоднее осветить его лицо. Мне неизвестен ни один другой дирижер, который лично заказывал бы такой ритуал»[31].
Сегодня, когда отделы маркетинга разрослись, миллионы долларов оркестровых бюджетов и усилия маркетологов направлены на подогревание интереса публики к дирижерам американских симфонических оркестров. Раньше его разжигали звукозаписывающие компании и личные пиар-менеджеры. Многих дирижеров открывают, когда им еще нет тридцати, и если они попадают в эту машину, то видят свои лица на обложках журналов, оказываются в кресле рядом с ведущим вечернего ток-шоу и дают интервью в немузыкальных журналах. The New York Times спрашивала на обложке воскресного приложения о Майкле Тилсоне-Томасе: «Новый Бернстайн?» Майклу также пришлось отвечать на вопросы обычно хорошо информированного Дика Каветта о «Бостонском филармоническом» и «Нью-Йоркском симфоническом» (имелись в виду Бостонский симфонический и Нью-Йоркский филармонический оркестры), а также на вопросы о музыке Гайдна, фамилию которого Каветт произнес неправильно. Если бы ведущий сделал такие ошибки, разговаривая с популярным спортсменом, его шоу, возможно, закрыли бы на следующее утро. Майкл выдержал раннюю славу, возникшую благодаря его несомненному таланту и успехам, и завороженное отношение публики на него не повлияло. Иные не могут пережить такие вещи без ущерба, и, поскольку, как я уже говорил, карьера дирижера продолжается всю жизнь, опасности ранней славы похожи на те, что грозят детям-актерам.
Поклонники, равно как и оркестры, могут быть верными или непостоянными. Вкусы меняются, а мода порой становится жестокой судьей. Как же дирижеру в этой буре непостоянных вкусов и жажды нового исполнять неизменный репертуар с редкими вкраплениями премьер, при том что наше искусство всегда было чуждо дискриминации по возрасту, а во многих случаях возраст воспринимается как синоним опыта и мудрости? Кого мы хотим увидеть в роли дирижера «Фальстафа»: молодого выскочку или кого-то, кто ближе по возрасту к Верди, когда тот сочинил оперу (это случилось, когда ему было семьдесят девять)? Великий британский актер Энтони Хопкинс замечал, что, играя короля Лира на сцене, чувствовал себя слишком молодым. «Ирония здесь заключается в том, что, когда ты достаточно стар, чтобы играть эти роли, ты уже слишком стар!»[32]
Опыт прекрасного выступления делает зрителей равными партнерами исполнителей. Когда аудитория становится единым целым, она, подобно оркестру, приобретает силу племени. Если эта объединенная сила враждебна к вам, порой бывает очень страшно. В 1964 году зрители на представлении «Бала-маскарада» Верди в Парме были настроены настолько недружелюбно, что об этом сообщил журнал Time, — в частности, потому, что американский баритон Корнелл Макнил подошел к краю сцены и прокричал разбушевавшейся толпе: «Enough, you cretins!»[33]
В апреле 1985 года я приехал в Милан, чтобы дирижировать четырьмя представлениями «Турандот». На половине пути состав исполнителей должен был серьезно поменяться: вместо звезд планировались менее известные артисты. Однако всё перевернулось, когда мы узнали, что на третий спектакль должны прийти принц Чарльз и принцесса Диана, причем не как частные лица, а как принц и принцесса Уэльские: это был первый официальный визит представителей британской монархии в «Ла Скала».
Звезды решили петь на первом представлении, а потом на третьем — хотя это не планировалось — и пропустить второе, чтобы отдохнули голоса. В «Ла Скала», конечно же, хотели произвести на принца и принцессу наилучшее впечатление, потому согласились на новый план. Но встала проблема найти кого-то — всё равно кого — для второго представления. Артисты, с которыми заключили договор на третий и четвертый спектакли, не согласились отказаться от третьего и выступить во втором, восприняв это как унижение. Однако они разрешили «Ла Скала» заплатить им за пропущенный третий вечер и собирались выступить в четвертый и последний раз.
Меня позвали на прослушивание сопрано для второго выступления. Она пела устрашающе трудную арию, которую я упоминал выше, и получалось не очень хорошо. Но Чезаре Мацонис, опытный и практичный художественный руководитель «Ла Скала», решил, что другой возможности нет. Он заверил, что зрители не будут протестовать, потому что он «позаботится о клаке».
Традиция иметь клаку восходит ко временам Римской империи, хотя само слово пришло из французского и подражает звуку аплодисментов: «Клак!» Клака — это группа людей, которым дают бесплатные билеты (а иногда платят деньги), чтобы они аплодировали артисту. Порой они освистывают выступление, если им не заплатили или если их перекупил конкурирующий артист. В «Ла Скала» поддерживали хорошие отношения с лидером клаки, и в тот вечер немало денег перешло из одного кармана в другой, чтобы вечер обошелся без скандала.
Когда я прибыл в театр перед вторым представлением, то обнаружил в camerino (гримерке дирижера) огромный букет цветов. Роскошный подарок сопровождался запиской, в которой говорилось: «Желаю вам отлично выступить. К сожалению, я буду за границей. Искренне ваш, Чезаре Мацонис».
Актер Зеро Мостел рассказал, что, когда он сидел без работы, продюсер Дэвид Меррик платил ему и другим безработным актерам, чтобы они смеялись и аплодировали на представлении «Свахи», создавая таким образом хорошее настроение у публики и способствуя долгой жизни спектакля. Нынешним телезрителям подсказывают, когда нужно смеяться, с помощью закадрового смеха. Людям нравится веселиться, а артистам нравится, когда им аплодируют. Средство работает. Но этично ли оно? Несколько лет назад Лос-Анджелесский филармонический оркестр решил не раздавать бесплатные билеты, что делалось для заполнения зала и создания иллюзии успеха. В результате заплатившие зрители сидели между пустых мест, и это так разрушительно повлияло на настрой оркестра, аудитории и всей организации, что совет директоров восстановил практику раздачи билетов — особенно когда на концерте ожидались важные критики.
Нужно ли устанавливать для классической музыки более высокие стандарты, чем для ситкомов или телевизионных игр? Казалось бы, ответ должен быть положительным, вот только зал, заполненный до отказа благодаря зрителям с бесплатными билетами, позволяет сохранять художественное видение организации — которая, по крайней мере в Америке, является частным предприятием. Также это означает, что прекрасный оркестр услышат люди, у которых может не быть другого шанса. У исполнителей классической музыки отношение к успеху у публики шизофреническое. С одной стороны, его считают занижением стандартов. С другой стороны, если молодые и заинтересованные зрители набиваются в залы, особенно когда исполняется трудная современная музыка, оркестры любят это подчеркивать. Противоречивое отношение к публике (кто они, люди в креслах, — зрители или фанаты?) переносится и на оценку дирижеров и репертуара, который те соглашаются исполнять. Однако не менее важно, что реакцией аудитории можно манипулировать с помощью факторов, не относящихся к собственно исполнению музыки.
Дирижер одного европейского оркестра недавно рассказал, что президент государственного комитета по искусству пообещал выделять его оркестру по миллиону евро в год в течение пяти лет, если оркестр сосредоточится на современных произведениях региональных композиторов. Под «современными» президент комитета, тоже композитор, подразумевал атональные произведения. Дирижер ответил, что если сделает это, то потеряет зрителей, на что чиновник ответил: «Ну и хорошо, ведь тогда потребность в государственной поддержке будет оправдана».
Легендарный румынский дирижер и преподаватель Серджу Челибидаке (1912–1996) отказывался выпускать записи своих выступлений, потому что без участия аудитории у него не было надежды передать трансцендентальность, которой требует и заслуживает музыка. Он считал запись просто фиксацией нот. Только после его смерти были выпущены диски с живыми выступлениями, но без участия сообщества зрителей его манера кажется странно преувеличенной, а техника не впечатляет. Однако те, кто побывал на его концертах, запомнили это на всю жизнь.
Когда публика встает на сторону артистов, получается то, что называют «прекрасное исполнение». Все элементы ритуала оказываются в гармонии, и за всё время представления не может возникнуть ни единой неверной ноты. В первые годы с Йельским симфоническим оркестром — абсолютно добровольным ансамблем студентов, большинство из которых не специализировались на музыке, — я знал, что ни один из оркестрантов не смог бы выйти на сцену университетского концертного зала и верно сыграть свою партию в Симфонии № 3 Малера. Но в окружении коллег, которые так же боролись со своими партиями и вкладывались в каждую извлекаемую ноту, а равно и в ноты остальных, благодаря коллективной силе воли двух тысяч трехсот однокашников в зрительном зале они прекрасно передали всеобъемлющий гений и намерения Малера, словно спортсмены, получившие энергию от фанатов.
В контексте живого выступления нет такой вещи, как ошибка. Все выступают и держатся вместе. Да, кто-то может пропустить ноту, кашлянуть или внезапно пискнуть инструментом. Но двери аудитории закрыты и опечатаны сознанием племени. Создана новая вселенная, и никто не может помешать титанической силе оркестра, особенно если к нему присоединились слушатели.
Это первобытное празднество, на которое мы надеемся: мы представляем великое произведение невидимого искусства — музыку, и дирижер действует как громоотвод для энергии, переходящей от тех, кто производит звуки, к тем, кто их слушает. Публика — важнейший элемент. Без нее музыка становится инертной, а с ней реализует смысл своего существования.
ОТНОШЕНИЯ С КРИТИКАМИ
«Не представляю, как человек способен отрезать себе голову», — говорит Ко-Ко, главный палач в опере Гилберта и Салливана «Микадо». «Можно попытаться», — утверждает всегда услужливый Пу-Ба. Этот эпизод неизбежно приходит на ум художнику, когда он размышляет о критиках и исследует свои отношения с ними. Мой бывший менеджер однажды посоветовал: «Никогда не пытайтесь переплюнуть критика. Точно окажетесь оплеванным». И всё же, поскольку наша репутация настолько зависит от напечатанных отзывов, а отзывы сильно влияют на повторные предложения работы, на ожидания публики и даже на наше собственное отношение к своему делу, я хочу поговорить об этом щепетильном вопросе.
Если коротко, то хорошие рецензии улучшают вам настроение, а плохие портят его. Рецензии — это прежде всего эмоциональные реакции, выраженные в умных терминах с целью создать ощущение объективности и заслужить авторитет благодаря подразумеваемому превосходству. Что бы мы ни говорили о музыке, эффект, который она производит, неизбежно воздействует на эмоции. Критики — это профессиональные представители аудитории, которые любят музыку, умеют хорошо писать, не платят за билеты и получают деньги за тексты о музыке и об ее исполнении. Они живут за наш счет так же, как мы живем за счет музыки, написанной другими людьми.
Столько артистов уже выступало против критиков — с тех самых пор, как люди начали писать об этом эфемерном предмете, исполнении музыки, — что практически нельзя противопоставить их мнению что-либо конкретное. Возможно, важнее будет обсудить, почему дирижера так расстраивает плохой отзыв на его работу и почему хороший отзыв порой кажется бесцеремонным.
«Людям нужна авторитетная фигура, которая указывала бы им, как оценивать вещи, но они выбирают ее не на основе фактов или результатов. Просто она кажется авторитетной или знакомой». Это цитата из фильма «Игра на понижение» 2015 года, которая в какой-то мере отвечает на вопрос, почему у нас есть критики и комментаторы — в политике, спорте и искусстве.
Дирижер, в конце концов, тоже критик. Мы делаем все те вещи, для которых у критиков нет времени или расположения. Мы подолгу изучаем абсолютно каждое произведение. Многие из нас читают всё, что только можно, о композиторе, его эпохе и условиях, в которых он сочинял музыку. Всю жизнь мы осваиваем приемы анализа, которые открывают нам устройство и разные уровни информации, скрытые в конструкции музыки и украшающие ее внешние проявления. Потом мы репетируем с живыми людьми, побуждая их показать себя с лучшей стороны, находим баланс между историей и ощущением современности, а еще принимаем важнейшие решения — решения, которых ожидает от нас композитор, чтобы мы могли представить живое воплощение его намерений. Каждый композитор понимает: сама идея создания музыки подразумевает ее неизбежную интерпретацию.
Когда человек, не проделавший всю вышеупомянутую работу, оценивает наше «критическое издание» музыки в форме живого выступления — иными словами, наше исполнение, — это, честно говоря, раздражает. Если критики пишут что-то негативное — «слишком быстро», «слишком медленно», «слишком свободно», «слишком жестко», — это, конечно, кажется нам настоящей агрессией, ведь разве они разбираются в материале лучше нашего? Как отдельные представители аудитории они не менее важны для нас, чем все остальные. Однако у них есть то, чего нет у остальных, — высокая трибуна, с которой громко звучит любое мнение. Когда дирижер начинает учиться, ему не рассказывают, что — если он не обделен способностями и возможностями выступать — его станет судить незнакомец, который в целом знает значительно меньше и чьи слова прочтет гораздо больше людей, чем придет на выступление.
После исполнения «Аиды» в «Голливудской чаше» критик Los Angeles Times написал разгромную рецензию. Газета получила много писем от несогласных читателей, и редакторы решили, что нужно опубликовать хотя бы одно. Но при этом они хотели соблюсти баланс и показать еще и письмо, где поддерживалось бы мнение критика. Такого не нашлось, и тогда они опубликовали отклик женщины, которая радовалась, что не посетила концерт, — с учетом прочитанного в газете.
Когда внештатный критик The New York Times рецензировал несколько записей Эриха Вольфганга Корнгольда, он проигнорировал мою запись «Симфонической серенады» и использовал другую. Не важно, было ли это исполнение лучше нашего или нет, но, очевидно, критик не знал, что выбранный им дирижер записал коду второй части («Скерцо») вдвое медленнее, чем указал композитор. Однако это была музыкальная шутка («scherzo», в конце концов, и значит «шутка» в переводе с итальянского), а следовательно, дирижер совершил серьезную ошибку. И критик на нее не указал.
В той же рецензии он заявил, что «очаровательная» мелодия в первой части была украдена из «Танца часов» из «Джоконды» Понкьелли. На самом деле, за исключением двух интервалов из одиннадцати в первой фразе, мелодия в произведении Корнгольда не имеет абсолютно ничего общего с мелодией Понкьелли. Те же два интервала использовались, например, в «Балладе о Мэкки-ноже» и «Джонни из Сурабаи» Курта Вайля, а также в народной музыке и в бесчисленных произведениях начиная с эпохи Возрождения.
Ошибки критика остались незамеченными, потому что мало кто из читателей знал произведение Корнгольда (если вообще хоть кто-то знал), а редактор точно не имел о нем представления. Рецензия была написана в авторитетном тоне и хорошим языком. Ни один читатель не мог бы поспорить с ней, не имея нот или, в случае с якобы украденной мелодией, не обладая способностью отличить большую секунду от малой терции. Вот почему мы так возбуждаемся, когда нас судит и отвергает плохо подготовленный критик. Ведь апелляционного суда для таких случаев не существует.
Репутация дирижера строится из нескольких вещей, и общая картина, складывающаяся из рецензий, — ее важный компонент. Когда-то существовали тысячи газет со штатными музыкальными критиками, которые делали репортажи о выступлениях и оценивали их. Эти люди были отлично подкованы в музыкальной теории и в журналистике. За прошедшие полвека их число очень сильно сократилось, а те, кто остались, приобрели больше власти в качестве арбитров, хотя их начитанность и интерес уменьшились. Еще совсем недавно, во время моего дебюта в опере в 1983 году, мы получили семь рецензий в ежедневных лондонских газетах и семь — в воскресных.
Некоторые критики всегда считались более важными, чем остальные. Эдуард Ганслик из Вены был, вероятно, самым авторитетным музыкальным критиком во второй половине XIX века — настолько, что Вагнер использовал Ганслика в качестве прототипа для персонажа в опере «Нюрнбергские мейстерзингеры», подчеркнув его высокомерный антивагнеровский консерватизм. Композитор превратил своего главного критика в шута, в объект презрительного смеха, который звучит даже сегодня — сто с лишним лет спустя после того, как были опубликованы леденящие кровь рецензии.
После Ганслика критиком в Neue Freie Presse стал Юлиус Корнгольд. Это поставило его гениального сына Эриха в щекотливое положение. Сначала Юлиуса обвиняли в том, что он тайком пишет музыку за своего ребенка. Корнгольд-старший ответил, что если бы мог писать такую музыку, то не стал бы музыкальным критиком. Это усугубило незавидное положение его сына: тех, кто исполнял его музыку, обвиняли в заискивании перед Юлиусом, а те, кто не исполнял, испытывали на себе гнев Корнгольда-критика, что тоже вредило репутации Эриха как композитора. Конечно же, это максимально иронический пример отношений артиста и профессионального критика.
Вагнер ответил на плохие рецензии самым замечательным образом, но другие музыканты редко вступают в потасовку. Бернстайн сделал это лишь однажды, но потом пожалел, потому что таким образом он всё равно подкрепил авторитет критика. Пол Генри Ланг был главным музыкальным обозревателем в New York Herald Tribune с 1954 по 1964 год, — это десятилетие пришлось на время, когда Бернстайн работал музыкальным руководителем Нью-Йоркского филармонического оркестра. Как и Гарольд Шонберг в Times, Ланг относился к работам Бернстайна резко негативно.
В 1958 году Ланг написал рецензию на выступление Марии Каллас в Метрополитен-опере, которая очень разозлила Бернстайна, лично присутствовавшего на представлении. Ланг отметил, что Каллас пела с занижением, тогда как, по свидетельству Бернстайна, она, как и большинство великих певцов, чуть завышала. Публика редко жалуется на завышение, зато легко улавливает занижение и отвергает такое исполнение как неудовлетворительное. Бернстайн указал, что музыкальный критик, который не слышит разницы между занижением и завышением, вероятно, недостаточно подготовлен, чтобы оценивать музыку в целом, ведь она в принципе представляет собой серию нот, которые идут вверх или вниз. В результате репутация Ланга серьезно пострадала, но его не уволили.
Перед музыкальным критиком ежедневной газеты стоит сложнейшая, практически невыполнимая задача. Может ли он по-настоящему оценить выступление, если не знаком с музыкой заранее и в подробностях, не понимает ее, не анализировал ее — и идет на концерт без предварительной подготовки? А у какого журналиста есть на это время — особенно в условиях сжатых сроков?
Однажды я спросил у музыкального критика в Берлине, что он думает о своей функции. Он ответил: «Докладывать о происходящем». На деле же критик скорее описывает, что хотел бы наблюдать: что он любит и в каком виде он это любит. Так что музыкальная критика в каком-то смысле разновидность автобиографии.
Рецензия в The New York Times за 13 мая 2006 года — хороший пример этого явления. Дирижер Юн Стургордс дебютировал с Нью-Йоркским филармоническим оркестром, и газета опубликовала подчеркнуто положительный отзыв о его работе, особенно отметив интерпретацию Второй симфонии Сибелиуса: «Мистер Стургордс подчеркнул прерывистость и дисгармоничные обороты в музыке, а также острые осколки диссонансов, которые Сибелиус вкладывает в обманчиво звучный гармонический язык». Другими словами, критик похвалил выступление, поскольку в нем подчеркнули модернистские и прогрессивные элементы, а не естественный и органический процесс, благодаря которому Сибелиус создал свою самую успешную и популярную симфонию.
Прерывистость была обозначена в качестве эстетического критерия в манифесте авангарда, созданном в начале XX века. В нем утверждается, что, как только публика принимает новую форму искусства, эта форма утрачивает ценность. Когда популярных композиторов вроде Сибелиуса, Брамса или Чайковского объявляют революционерами, их музыка становится приемлемой и уместной в общей концепции нескончаемого провокационного авангарда; эта идея и сейчас остается актуальной для большинства «серьезных» музыкальных критиков. Именно так они хотят слышать музыку XX века — подчеркивая ее дисгармоничные, диссонирующие элементы, и, возможно, таково и ваше желание. Нужно ли считать Сибелиуса продолжателем Чайковского — в чем его часто обвиняли, когда я был еще мальчиком, — или же он протомодернист, который изобразил отчуждение в быстро меняющемся XX столетии? Дирижер может подчеркнуть или то, или другое, или сразу обе эти стороны.
Порой критик указывает на ошибки своих известных коллег из прошлого. Но в целом, если нужно процитировать чужие выводы, как правило, их берут у людей с похожими взглядами и получают предположительно объективный и авторитетный способ подтвердить собственную точку зрения и собственные выводы. Всем, кто оценивает эти выводы, приходится крайне сложно, потому что сегодня их предлагает очень мало авторов. Кроме того, у всех этих авторов, кажется, одинаковый подход, выведенный из политических и эстетических споров о том, как характеризовать классическую музыку в XX веке. Мы редко читаем, если вообще читаем, мнение критиков, оставшихся в меньшинстве, но представляющих немалую часть — возможно, большинство — слушателей, которых интересует классическая музыка. Такого никогда не случилось бы с редакционными статьями о политике, спорте или о других, более осязаемых, формах искусства.
Картины постоянно оцениваются и переоцениваются. То, что когда-то называли китчем, внезапно воспринимается как нечто великое. Абсолютно неизвестные художники получают признание в ретроспективе, а публика (и критики) приходят к интересным и нетрадиционным выводам. Музыка не может подвергнуться такому здоровому переосмыслению, если ее не играть. Симфонию не повесишь на стену. Выступления исчезают через полсекунды после завершения. Кто будет спорить с опубликованным отзывом о работе, которая только что растворилась в воздухе?
Любой дирижер, который выступает в пользу музыки, вышедшей из моды, как это сделал Пауль Хиндемит с добарочными композиторами, преподавая в Йеле (в 1940–1953 годах), или как это делает Риккардо Мути с итальянской симфонической музыкой начала XX века, будучи музыкальным руководителем Чикагского симфонического оркестра, должен заручиться чьим-либо покровительством, поскольку публика сторонится новых и неизвестных вещей, а администрации концертных залов надо продавать билеты. Критиков тоже нужно просвещать, и порой личное участие дирижера может запустить переоценку того или иного композитора. Когда Мути узнал, что The New York Times будет освещать один из его концертов в Чикаго, он лично пригласил главного музыкального критика Энтони Томмасини пройти за кулисы и обсудить композитора Джузеппе Мартуччи (1856–1909), чью музыку он только что исполнил. Убедительный дирижер может очаровать и просветить сочувствующего и заинтересованного критика, так что и Мартуччи, и Мути получили теплый прием на страницах этой авторитетнейшей американской газеты 2 октября 2016 года. (Статья вышла под заголовком «Риккардо Мути не скрывает страсти к недооцененным итальянским композиторам».)
Я тоже однажды написал объяснение с целью подготовить публику и критику к тому, что разнообразные отклонения в интерпретации нотного текста сознательны и основываются как на исследованиях, так и на интуитивных находках. В 1985 году в Английской национальной опере восстанавливали «Риголетто» в постановке Джонатана Миллера, и я воспользовался свежим критическим изданием нот Верди, подготовленным Мартином Чусидом и выпущенным издательством Чикагского университета совместно со знаменитым итальянским музыкальным издательством Casa Ricordi.
Как и большинство любителей музыки, я вырос на «Риголетто». Конечно же, я слышал то, что мы называем «традиционными» представлениями, но стоит сказать, что известные традиции сложились в эпоху звукозаписи. Получается, наши ожидания основаны на интерпретациях, которые появились в 1930-х годах, а не в 1851-м, когда Верди сочинил оперу. В новом издании всё выглядело так, как в известном мне «Риголетто», за исключением обозначений темпа по метроному. Во многих местах музыка была помечена как более медленная или более быстрая, чем всё, что я слышал раньше.
Чусид объяснил, что такие пометки сделал Верди, — масса документов подтверждает, что Верди буквально настаивал на их важности, — и предположил мне попробовать их использовать. Я боялся, потому что я возвращался в Лондон, где уже не раз выступал с успехом у публики и критиков. Это не была новая постановка с сопутствующими фанфарами со стороны прессы, и в день первого представления симпозиума не планировалось. Более того, единственное, что отличало этот сезон от предыдущих, — только что вышедшая партитура, которую я вез с собой в самолете.
Из этой партитуры следовали вещи, изменившие восприятие Верди для некоторых людей. Числа, описывающие темп, выстроены на архитектурный манер. Темп, завершающий первый акт, совпадает с темпом, открывающим второй акт, — словно с намерением вернуться к истории на том месте, где она закончилась. Он не встречается нигде более, кроме этого объединяющего момента. Также в партитуре есть повторяющийся темп в шестьдесят три удара в минуту, в котором начинается первый акт первой сцены — а потом первый акт второй сцены. Этот же темп возвращается в важных структурных точках, показывая, что опера похожа на здание, возведенное Верди из блоков времени. Однако это не традиционные темпы, привычные для меня и всей остальной публики.
Я прибыл в Лондон с карманным метрономом и большую часть репетиционного периода говорил вещи вроде: «Прекрасно. Но, знаете, Верди предлагал делать это гораздо медленнее». Английские певцы шли мне навстречу и проявляли интерес. В каждом отдельном случае они обнаруживали, что их роли легче петь в темпах, предложенных Верди, и медленно, но верно восстановили задуманное композитором.
Когда я попросил включить примечание дирижера в программку Английской национальной оперы, музыкальный руководитель Марк Элдер в итоге понял, что это будет интересно публике и критикам.
Лондонские критики, подготовленные напечатанным объяснением, признали первое представление «Риголетто» успешным, а также подчеркнули важное открытие, которое должно было привести к дальнейшим исследованиям и новым откровениям. Однако продолжение истории во многом говорит об эфемерной природе живого выступления. На следующий год спектакль дирижировал другой маэстро. В положительной рецензии одной из лондонских газет его темпы назвали «домосерийскими». Когда я привез Верди на летний оперный фестиваль в Мачерате, в местной газете вышла статья с крайне показательным заголовком: «„Риголетто“ в Мачерате. Но куда делся Верди?»
Наше исполнение «Риголетто» звучало не так, как в записи у критика. Не помог делу и тот факт, что многие критики считают изменения темпа законным правом дирижера на интерпретацию и не обсуждают их в контексте необходимости «делать что написано». Если в произведении меняются ритмический рисунок или ноты, обычно это вызывает всеобщее осуждение, но пренебрежение к конкретным указаниям темпа, как ни странно, считается абсолютно нормальным. Более того, упоминание метронома считается чем-то немузыкальным, даже когда это важнейший элемент в конструкции произведения.
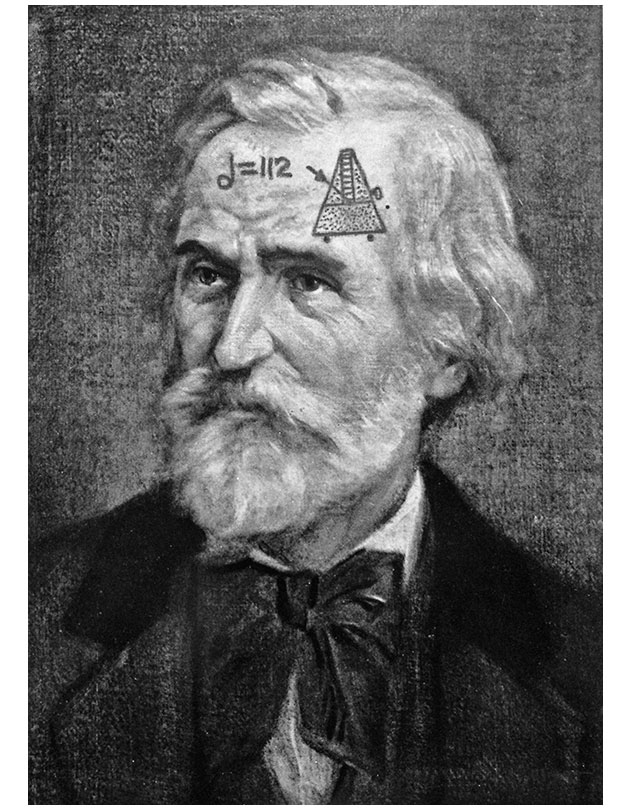
Открытка с пожеланиями удачи от артиста Английской национальной оперы, подаренная мне перед лондонской премьерой «Риголетто», в критическом издании 11 января 1985 года
Мы, дирижеры, как я пытался показать выше, имеем возможность подчеркнуть лишь определенные аспекты в произведении. Как только мы поняли, что именно хотим продемонстрировать, другие решения прочих дирижеров обычно вызывают критику с нашей стороны. Если я полагаю, что Верди построил конструкцию «Травиаты» — и в целом, и в отдельных моментах — на одной теме, которая впервые появляется в прелюдии и спускается на шесть нот, постепенно становясь тише (диминуэндо), а потом Риккардо Мути добавляет гигантское крещендо, когда тема появляется в середине второго акта, это ставит меня в тупик. Тот же момент в прелюдии у Георга Шолти звучит сначала в крещендо, а потом в диминуэндо, хотя Верди ясно указывает, что это щемящее, сладостное движение к тишине, и я качаю головой в недоумении. Как может такой великий дирижер так невероятно «ошибаться»? Почему он игнорирует ясные указания композитора? Очевидно, что важные — более того, главные — для меня вещи не имели такого значения ни для моих коллег, ни для критиков, которые нашли в их интерпретациях массу поводов для восхищения.
Хотя порой соблазнительно видеть в критиках врагов, это и неверно, и неполезно. Однако если местный критик ставит себе задачу постоянно нападать на музыкального руководителя местного симфонического оркестра или оперной труппы, этой организации становится всё труднее и труднее функционировать. Одни критики в не самых больших городах порой действуют как болельщики оркестров и трупп, в то время как другие стараются показать, что обладают знаниями мирового уровня, ненавидят тот факт, что не живут в крупном городе, и ставят под вопрос репутацию любого дирижера, который соглашается у них выступать: «Если вы так хороши, тогда что вы делаете здесь?» Когда я прочел, что «Сила судьбы» Верди в моем исполнении в Глазго крайне разочаровала критика, в то время как та же опера была моим лондонским дебютом несколько лет назад и получила четырнадцать в высшей степени положительных отзывов, мне словно плеснули в лицо холодной водой. Но, как говорится, если веришь хорошим отзывам, надо верить и плохим.
В тех странах, где государственная поддержка искусств — обычное явление, а СМИ реализуют политику гласности, музыкальная критика порой может быть оружием в политической борьбе. В Турине, где я оказался первым (и на момент, когда я пишу эти строки, последним) американцем на посту музыкального руководителя оперного театра, я часто мог определить политическое кредо издания по тому, как описывались мои выступления. Коммунистическая газета La Repubblica никогда не была обо мне высокого мнения, в то время как для христианско-демократической La Stampa я всегда выступал великолепно, — ну, вы понимаете, о чем речь. («Одна хорошая, одна плохая и одна посередине, — так мой ассистент Марчелло Сиротти охарактеризовал рецензии в газетах на нашу „Мадам Баттерфляй“. — Выбирайте какую хотите!»)
В самом начале карьеры я дирижировал новой постановкой оперы Моцарта «Так поступают все женщины» в оперном театре Санта-Фе. Критик из Альбукерке решил, что он слышал самое медленное исполнение этой вещи, с каким сталкивался в своей жизни. В то же время критик из Сан-Франциско счел его самым быстрым в своей жизни, а через месяц, когда вышел новый номер Opera News, выяснилось, что «безупречные темпы Джона Мосери пошли на пользу постановке». Конечно, каждый критик был прав.
Трудно определить, почему некоторые блестящие дирижеры становятся мишенями для критиков, а другие — их любимцами. Почему Зубина Мету сочли «дирижером-джетсеттером», а Валерия Гергиева — «миссионером», который путешествует по всему миру, бескорыстно разнося музыку повсюду? Мета однажды сказал, что любит летать, потому что в самолете никогда не звонит телефон и можно изучать партитуры в тишине. Это вполне разумное утверждение почему-то преследовало его до последних дней в качестве музыкального руководителя Нью-Йоркского филармонического оркестра и по какой-то причине обеспечило ему клеймо несерьезного дирижера. Возможно, это было связано с его успехом в Лос-Анджелесе («городе мишуры») до приезда в Нью-Йорк и с его замечанием о том, что Лос-Анджелесский филармонический оркестр лучше Нью-Йоркского, которое он сделал, будучи приглашенным дирижером. В любом случае, авторитетные критики Восточного побережья решили, что Зубин — поверхностный музыкант, склонный к дешевым эффектам. В то же время они оценили Гергиева как глубокомысленного патриарха искусства. В некрологе Курта Мазура в The New York Times Маргалит Фокс написала, что Мета стал причиной «упадка в художественном плане», постигшего Нью-Йоркский филармонический оркестр, и «воспринимался как источник показного блеска, пришедшего на смену глубокому музыкальному смыслу». И всё же в Милане в 2016 году Мету высоко оценили за «вдохновенное и глубокое» исполнение «Кавалера розы» Штрауса.
Порой дирижер получает только положительные отзывы. Это иногда случается в конце длинной карьеры, но бывает и с самого начала, как в случае с Густаво Дудамелем. Исключительно положительные отношения с Томмасини, возможно, определили тот факт, что выступления Джеймса Ливайна всегда оцениваются по особой шкале. Ливайн получал исключительно прекрасные упоминания в Times, даже когда не дирижировал, например после выступления струнного квартета из оркестрантов Метрополитен-оперы 15 декабря 2015 года. Тот же критик придерживался противоположного мнения о поздних работах Лорина Маазеля, который вроде бы только и делал, что ошибался, пока был музыкальным руководителем Нью-Йоркского филармонического.
Мне кажется, это значит, что в выступлениях Ливайна естественно проявляется ощущение направления вкупе с наивысшим стандартом технической точности, и, очевидно, именно такую музыку любит Томмасини. Маазель же растягивает темпы и «вставляет себя» в произведение, что раздражает критика. Но что бы ни писали о двух этих людях, они — величайшие дирижеры своей эпохи.
В плохой рецензии есть элемент публичного унижения. Двадцать четыре часа вы чувствуете себя так, словно стоите у позорного столба, а все прохожие осуждающе цокают языком. «Неоднозначную» рецензию Мартина Бернхаймера после моего профессионального дебюта с Лос-Анджелесским филармоническим оркестром, как выяснилось позже, повесили на доску объявлений в нотной библиотеке Йельского университета — на всеобщее обозрение. Через несколько лет я беседовал о Бернхаймере с Майклом Тилсоном-Томасом, и он сказал, что читал эту рецензию. «Мне прислала ее мама», — сообщил он. Нет абсолютно никакого способа скрыться от плохой рецензии. Дуглас Адамс верно заметил в романе «Автостопом по галактике»: «Ничто не движется со скоростью, превышающей скорость света, кроме плохих новостей, которые подчиняются особым законам».
Критики способны подорвать нашу уверенность. Это можно наблюдать на примере композиторов, которые, получив уничижительные рецензии, прекращали сочинять. Так вышло с Сэмюэлом Барбером после массовой взбучки, которую он получил за «Антония и Клеопатру» в 1966 году, с Коулом Портером после того, как он написал «Аладдина» для телевидения в 1958-м, и с Леонардом Бернстайном после «Тихого места» в 1983-м. Дирижер так же раним, и отсутствие уверенности — вирус, который всегда тайно бродит у него в крови. Как однажды сказал Тилсон-Томас: «Никто не знает, как ты плох, лучше, чем ты сам».
Прямо перед моим дебютом в Метрополитен-опере в 1976 году ее оркестр угрожал забастовкой. Это означало, что я готовил оперу и дирижировал на открытой генеральной репетиции, не зная, стану ли выступать по-настоящему. После мне сообщили, что ведущий WQX — авторитетной классической радиостанции Нью-Йорка — был на репетиции и сказал в эфире, что не знает дирижера, но считает, что «родилась звезда».
Театр решил проблемы с профсоюзом, и спустя два вечера я дебютировал. Моя семья сидела в зрительном зале. Для внука четырех иммигрантов, один из которых дирижировал оркестрами в отелях и преподавал игру на скрипке, было огромной честью выступать в Метрополитен-опере.
Первая рецензия появилась в New York Post на следующий день. Я не стал ее читать, но позвонил своему менеджеру и спросил, положительная ли она. «Нет», — ответил он. Тем вечером на фуршете я был воплощенным хладнокровием, отвечая на вопрос, как всё прошло: «Хорошо, но, насколько я знаю, [критика New York Post] Гарриет Джонсон это волнует». — «Да, — ответили мне, — а каков заголовок!» Я улыбнулся, мы с женой посмотрели друг на друга и проговорили одними губами: «Заголовок!»
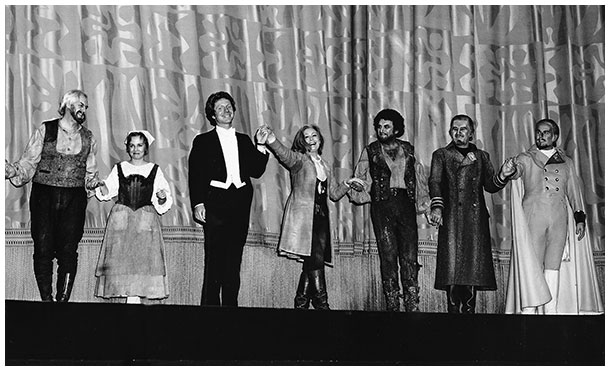
Первое представление «Фиделио» в Метрополитен-опере в Нью-Йорке 2 января 1976 года — мой дебют в этом театре. Слева направо: Джон Макерди, Джудит Блеген, я, Гвинет Джонс, Джесс Томас, Дональд Макинтайр и Джеймс Моррис
Родители никогда не рассказывали мне, как они, их соседи и друзья, а также мои учителя чувствовали себя в этот момент моей жизни: восторженная публика, любезность Гвинет Джонс и тенора Джесса Томаса, поддержка великого немецкого режиссера Отто Шенка («Я ставил „Фиделио“ с Бернстайном и Бёмом, но совсем по ним не скучаю!») — и всё это описывалось как провал. В рецензии говорилось, что представление было прекрасным, несмотря на дирижера (если вы прочли всё, написанное выше, то знаете, что это просто невозможно). Другие рецензии оказались положительными, и по крайней мере одна — вдумчивой. Лишь годы спустя я набрался мужества и прочел рецензию в New York Post. Каким же был заголовок? «Бетховен выжил, несмотря на Мосери».
Необходимость спуститься в оркестровую яму театра, в который я ходил со дня его открытия в 1966 году, и знать, что многие в аудитории были «осведомлены» о моей негодности, давила на меня. В том сезоне мне предстояло провести еще десять спектаклей. Все билеты были проданы, и каждое представление завершалось овацией. Иногда овация начиналась в середине второго акта, после увертюры «Леонора» № 3, которая была вставлена в спектакль. Благодаря этому я, конечно, снова чувствовал себя компетентным. Но каждый раз, сняв фрак и переодевшись, я знал, что через несколько дней придется начать сначала с тем же сосущим ощущением ужаса.
Гарриет Джонсон полагала, что у нее есть обо мне инсайдерская информация. Ее источники решили, что я был любовником Леонарда Бернстайна и именно поэтому дирижировал «Фиделио» в «Метрополитен». Веря в это, она исполнилась решимости наказать меня и всех, кто был замешан в отвратительном секрете. В те дни, если в рецензии что-то говорилось о моих волосах, я знал, что у меня проблемы. Она называла меня «Адонисом с тициановскими волосами». И если Бетховен выжил, несмотря на Мосери, то стоит сказать, что Мосери выжил, несмотря на Джонсон, но едва-едва.
Джонсон написала неправду не только об этом, но критики, как я уже говорил, обычно судят исполнение с точки зрения ожиданий, которыми, как и публикой, можно манипулировать. Уникальные черты в том, что они на самом деле слышат в противоположность ожиданиям, могут восприниматься как откровение, любопытный факт или некомпетентность. Оценка интерпретации сильно зависит от моды, как и всё остальное. Оратория «Мессия» в версии сэра Томаса Бичема с оркестровкой Юджина Гуссенса, гигантской хоровой мощью и оперными солистами показалась бы сегодняшним критикам неприемлемой. И наверное, сейчас было бы трудно получить хорошие рецензии для сильно сокращенной «Медеи» Керубини, с которой Каллас и Бернстайн выступили в 1953 году.
Ясность, отсутствие эмоциональности, сила интеллекта и способность дирижировать сложную современную музыку — даже если произведение появилось еще до концепции «современного» — были критериями для оценки дирижеров в конце XX века, но сохраняются и теперь. Игорь Стравинский лучше всего показал, что представляет собой такая интерпретация музыки и ее функций, когда в 1960 году заявил, что его балет «Весна священная», написанный в 1913 году, не является описательной симфонической поэмой. В послевоенный период в Западной Европе и в американских университетах хорошей считалась музыка ни о чем. Ценилась просто музыка, что создавало неудобства для стареющего Стравинского, который всегда хотел быть впереди авангарда, а вдруг оказался композитором, чья слава основывалась на работе с конкретным названием и сценарием, повествующим о поведении доисторического племени, умыкании жен и ритуальном танце обреченной на смерть девственницы в форме коронации богини весны.
Стравинский решил эту проблему, заявив, что его произведение не то, чем оно является на самом деле. Он настаивал на негибкости в исполнении, которая делала вещь почти механически отстраненной, и этим подтверждал ее непреходящую ценность. Так в 1960 году «Весна священная» сделалась одновременно значимым музыкальным эквивалентом нерепрезентативного искусства и ранним предшественником современной музыки. Неудивительно, что критики, поверившие в такую концепцию исполнения, также поддерживали дирижеров, которые пошли по этому пути в интерпретации даже более старых произведений. Отдельные отщепенцы предположили, что исполнение барочной и ранней романтической музыки без вибрато, которое так расхваливали во второй половине XX века, было скорее применением того же эстетического принципа к прошлому, в результате чего даже крайне описательные вещи типа «Времен года» Вивальди звучали отстраненно и стерильно. Благодаря такому подходу идеальным интерпретатором «Весны священной» стал Пьер Булез, представитель плеяды молодых послевоенных музыкантов, вдохновленных теми же ненарративными — может быть, даже некинематографическими? — интерпретациями, которые предложили Эса-Пекка Салонен и Дэвид Робертсон (оба — последователи Булеза).
Непрограммная интерпретация музыки, написанной до XX века, достигла иронической кульминации, когда ее применили к самому протокинематографическому композитору всех времен — Рихарду Вагнеру, которого критики при жизни обвиняли в том, что он сочиняет скорее пейзажи, чем музыку. Когда два внука Вагнера, Виланд и Вольфганг, вновь открыли Байройтский фестиваль в начале 1950-х годов, они отказались от концепции оформления сцены, которую Вагнер создал для своих опер. Нарисованного леса не стало. И что еще важнее, постановку Вагнера и специфические движения, совпадавшие с его музыкой, тоже в целом упразднили, от чего оперы стали менее конкретными в плане времени и физической синхронизации.
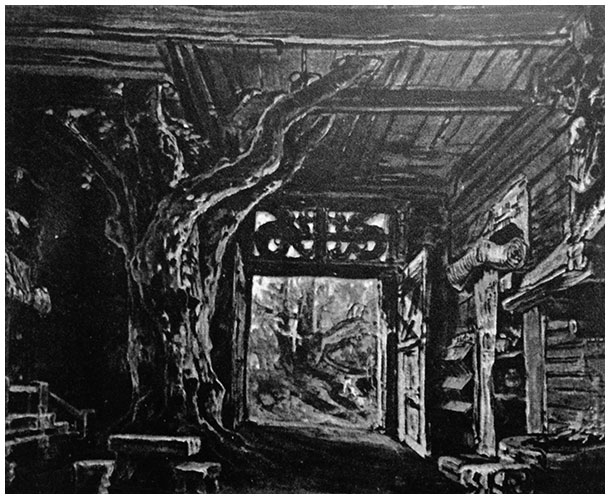
Декорации Макса Брукнера для первого акта Валькирии (Байройтский фестиваль, 1896 год)
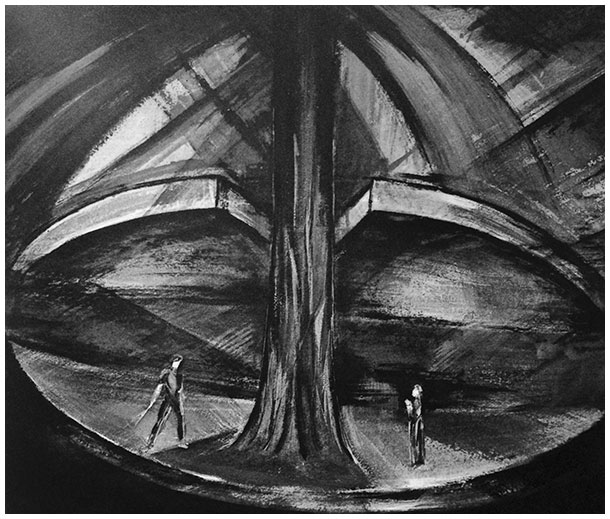
Декорации Вольфганга Вагнера для первого акта «Валькирии» (Байройтский фестиваль, 1960 год). Весенние цвета и ясень в центре сохранились, но мир парит в пространстве, а круг, представляющий магическое кольцо, символически разбит на два полукруга
Всё это было откровением в 1950-е и 1960-е годы, однако представляло неизменную проблему для молодых братьев Вагнеров (но не для публики). Многие дирижеры, которые работали или учились с первыми интерпретаторами этих партитур, всё еще исполняли вагнеровскую музыку в крайне эмоциональном и живописном ключе. Даже когда изображения на сцене оказались более обобщенными, они всё равно оставались эпичными, драматичными и настолько красивыми, что захватывало дух. Но когда Виланд решил попросить Пьера Булеза дирижировать в Байройте, он выяснил, что нашел идеального соратника. В самом деле, Булез завершил процесс, который можно назвать «декинематографизацией» Вагнера, и это встретило общее — хотя и не единодушное — признание критиков.
Музыка и ее исполнение менялись всегда. Мы держимся за одни вещи и отбрасываем другие. Критики в итоге поддерживают или отвергают эти преобразования. В случае с отказом от нарратива в нарративной музыке случившаяся перемена стала одной из важнейших в истории исполнительского искусства. Если делать из Вагнера вечного революционера с шокирующими визуализациями и ставить «Кольцо нибелунга», исключив из него человеческую любовь и любовь к природе, — примерно так, как сделал Стравинский с новым подходом к «Весне священной», — то это может навредить и композитору, и его музыке.
Именно по этой фундаментальной причине нам трудно принимать отрицательные рецензии и выступления других дирижеров. Мы уже прошли трудный, требующий напряжения сил процесс и сделали другие выводы, во многом подобно актеру, который играет Гамлета совершенно не так, как другой актер, хотя они произносят одни и те же слова. Порой мы всё же испытываем неожиданное удовольствие, когда коллега удивляет нас находками, которых мы и представить не могли. В этот момент наше уважение будет естественным и абсолютно искренним. Но в целом обычно мы оставляем уважение для наших наставников.
Из моих наставников Бернстайн остается «активным» в мире классической музыки. Это, конечно, кажется удивительным, ведь, как я указывал выше, он всегда был мишенью The New York Times и New York Herald Tribune, пока занимал пост музыкального руководителя в Нью-Йоркском филармоническом оркестре. Он регулярно начинал новую серию концертов по четвергам и рассказывал об этом так: «Каждую неделю за завтраком я читал, как ужасно выступил. И потом шел на дневной концерт в пятницу с пониманием, что все в зале прочли, как плохо у меня вышло, еще до того, как услышали хотя бы единственную ноту из программы».
Повлияли ли разгромные рецензии на карьеру Бернстайна? Конечно же, повлияли. Всё это означало, что ему нужно было заручиться более авторитетной оценкой, способной компенсировать неприязнь нью-йоркских критиков, которые не считали его серьезным художником, — в противном случае его «ценность» могла значительно упасть. Да, он был известен по выступлениям на телевидении, и его обожала какая-то часть нью-йоркской публики, однако бестселлерами в категории классической музыки в США были записи Юджина Орманди с Филадельфийским оркестром. Бернстайн вызывал исключительное неприятие: из-за своей вульгарности, еврейского происхождения, неукротимого жизнелюбия, просто слишком большого масштаба личности, — этот композитор бродвейских мюзиклов, который также писал симфонии, дирижер, пианист, красноречивый гид по высокой культуре с патрицианским бостонским произношением, который, однако, хотел, чтобы его звали Ленни. Подтверждение его репутации, так и не полученное в высоких кругах, пришло из наилучшего источника и закончило эту историю: его оценили в самом Городе музыки. Как только Вена призналась в любви к Бернстайну (крайне трудно сказать, что сыграло здесь роль: неприятие Караяна, желание доказать отсутствие антисемитизма в Венском филармоническом, облегчение от присутствия американского дирижера, настолько влюбленного в оркестр и в его историю, или просто талант), Америка и Гарвард приняли это во внимание. Deutsche Grammophon захотела снова записать девять симфоний Бетховена с Бернстайном, и его реноме было прочно закреплено, что превратило когда-то молодого и дерзкого американца, пропагандиста американской музыки, в мудрого дирижера мирового масштаба, исполняющего основной европейский репертуар, — но которому к тому же удалось написать «Вестсайдскую историю». Европейские критики принялись восхвалять его, и вскоре после этого новое поколение американских критиков с ними согласилось.
Герберт фон Караян скончался 16 июля 1989 года. На четыреста пятьдесят пять дней Бернстайн стал без сомнений величайшим дирижером в мире — до смерти в октябре 1990 года.
Такова реальность: даже если вы лучший, это ненадолго.
ОТНОШЕНИЯ С ВЛАДЕЛЬЦАМИ ПРАВ НА МУЗЫКУ И АДМИНИСТРАТОРАМИ
Хотя дирижеры руководят оркестром, только если их приглашают это делать, в любом случае стоит вопрос, какую музыку можно исполнять, кто ею владеет и кто позволяет ее использовать. Большинство произведений, которые мы дирижируем, — стандартный репертуар — являются общественным достоянием, то есть принадлежат всему человечеству. Они исполняются без авторских отчислений композиторам и их правопреемникам. Но владение не всегда связано с авторским правом. Порой речь идет о «фирменных» вещах того или иного дирижера.
Представление о том, что музыка, сочиненная кем-то другим, может «принадлежать» дирижеру, появилось главным образом благодаря маркетингу. В 2004 году, когда я провел уже тринадцать сезонов во главе оркестра «Голливудской чаши», мы с коллегами создали программу на основе восстановленных Балетом Джоффри исторических спектаклей: «Послеполуденного отдыха фавна», поставленного Вацлавом Нижинским в 1912 году, и «Весны священной», которая впервые демонстрировалась в Париже годом позже. У нас всё было готово для выступления на ближайших выходных, но из администрации Лос-Анджелесского филармонического оркестра пришло сообщение: «Весна священная» принадлежит Эса-Пекке Салонену, а значит, нам нельзя ее играть. Поскольку Лос-Анджелесский филармонический обладает эксклюзивными правами на выступления в «Голливудской чаше», этот оркестр действительно может контролировать такие вопросы. Хотя «Весну священную» не исполняли в «Чаше» восемь лет и не планировали делать это в обозримой перспективе, никакие споры и уговоры не изменили бы решение. Должен сказать, в нем не было ничего личного: в конце концов, я дебютировал с Лос-Анджелесским филармоническим именно с «Весной священной», а недавно дирижировал ее с Лондонским симфоническим оркестром, и, конечно, Эса-Пекка никак лично не влиял на эти вещи. Просто есть необходимость поддерживать музыкальную вселенную, в которой Салонен остается главным интерпретатором, пока руководит оркестром. Это произведение входило в список его «фирменных» вещей.
С другой стороны, оркестр «Чаши» решили позиционировать по-новому. Раньше у него был полный симфонический репертуар: оперы, симфонии, современные работы Дьёрдя Лигети, Джона Адамса и Питера Максвелла Дэвиса, а также музыка к кинофильмам, но потом из него захотели сделать «популярный» оркестр и всю программу заменили «величайшими хитами» русских композиторов, куда вошел второй акт «Щелкунчика». Моя задача как дирижера состояла в том, чтобы отнестись к «Танцу феи Драже» с той же самоотдачей, с какой я отнесся бы к «Великой священной пляске». Это был один из первых уроков, которые преподал мне Густав Майер, когда я, двадцатилетний студент, пожаловался, что мне предстоит дебютировать с Йельским симфоническим оркестром, исполняя две арии Верди для баса с простым аккомпанементом. «Mach gute Miene zum b?sen Spiel», — сказал он. «Извлеките лучшее из плохой ситуации». Я так и поступил. На время исполнения эти арии стали моим миром, о чем я ни на минуту не пожалел.
Андре Превин рассказал мне, что первая возможность дирижировать музыку к целому кинофильму появилась у него в девятнадцать лет. Это была «изумительно плохая» картина под названием «Солнце восходит», и снималось в ней неожиданное трио: Джанет Макдональд, Ллойд Нолан и собака Лэсси. Полная самоотдача в работе над тем проектом в итоге привела его к четырем «Оскарам» (за «Жижи», «Порги и Бесс», «Нежную Ирму» и «Мою прекрасную леди»). Превин стал одним из самых влиятельных музыкантов XX века.
Репертуар определяется многими факторами, и наши отношения с владельцами музыкальных произведений похожи на отношения с Цербером: одних он пропускает, а других оставляет за воротами. Это не должно влиять на качество работы. Нам всегда следует понимать, что черные точки и линии на странице, то есть ноты, лишь приглашение к вещам более широким и глубоким, чем звук, который они обозначают. Желанное и загадочное «прекрасное выступление» возможно с самой разной музыкой. При некоторых обстоятельствах, обычно связанных с дирижерами, серьезно звучащая музыка может стать поразительно тривиальной, а простая — необыкновенным опытом. Репертуар в конечном счете находится в руках администрации. Лос-Анджелесский филармонический оркестр — частная организация, он может играть всё, что хочет, и приглашать кого хочет. Для этого принимаются внутренние решения о том, что лучше для организации. Они бывают невероятно сложными, и выживание стоит здесь на первом плане: необходимо сохранять публичный имидж энергичной, целеустремленной и успешной компании и поддерживать корабль на плаву, несмотря на несовместимые друг с другом рекомендации членов совета директоров, критиков и представителей аудитории. В течение шестнадцати летних сезонов в «Голливудской чаше» я редко чувствовал, что у меня есть начальник, хотя он определенно был.
В нашей сфере много загадочного и нелогичного, и музыка владеет нами в том же смысле, как земля владеет фермером. Некоторые дирижеры обрели огромную славу, будучи узкими специалистами, то есть сосредоточившись на очень ограниченном репертуаре и став «экспертами» в его исполнении. Например, Николаус Арнонкур сфокусировался на музыке эпохи барокко и вместе с Густавом Леонхардтом произвел сенсацию, решив записать сто девяносто три духовные кантаты Баха с небольшим мужским хором, солистами-мужчинами (за исключением двух кантат, которые Бах написал для женского голоса) и аутентичными инструментами. После этого за подобными вещами стали обращаться прежде всего к Арнонкуру. Твердо стоя на ногах, он постепенно расширил охват, включив в свой репертуар классический период, а в итоге даже немного занялся Брукнером и незадолго до смерти записал весьма оригинальную версию «Порги и Бесс».
В то время как некоторые дирижеры находят для себя нишу, большинство остаются универсалами или почти универсалами, а значит, от них ожидается способность к убедительному и авторитетному исполнению любой музыки, от Гайдна до современных произведений. Но как человек — это то, что он ест, так и дирижер — то, что он дирижирует. Как ни печально, но в мире классики обнаруживается множество чопорных снобов, особенно когда дело доходит до разделения музыки на «популярную» и «серьезную».
Если дирижер соглашается дирижировать популярную музыку (которую порой неверно называют «коммерческой»: в конце концов, композиторы всегда зарабатывали музыкой деньги), ему стоит больших усилий сохранить остатки серьезной репутации. В мире высокой культуры действует такой принцип: поп-арту — да, поп-музыке — нет. Как только вас объявят поп-дирижером, можете попрощаться с Бетховеном и Шостаковичем. Вас будут считать поверхностным человеком, который готов пожертвовать искусством ради денег. Тот факт, что дирижеры с классическим репертуаром в целом зарабатывают гораздо больше, чем дирижеры, которые занимаются поп-музыкой, многим людям неизвестен.
Хотя некоторых дирижеров и считают «владельцами» определенного репертуара в метафорическом смысле, музыка часто по-настоящему охраняется авторским правом, и за ее исполнение приходится платить. Иногда владельцем является сам композитор. В других случаях это его наследники. Издательские дома, публикующие ноты, дают в аренду каталоги композиторов, а в некоторых случаях оркестр может купить партитуру и набор партий, а потом использовать их по желанию. Как это ни удивительно, есть музыка, которая охраняется авторским правом, не будучи опубликованной, например многие произведения Дюка Эллинтона или Джорджа Гершвина. Музыкой к кинофильмам владеют студии, а не композиторы. Дирижер, который хочет исполнить что-то из перечисленного, должен быть готов к тому, что ему придется сделать куда больше, чем просто купить ноты и разучить их. Оркестрам тоже нужно иметь в виду более серьезные расходы, чтобы исполнять такую музыку.
Отношения дирижера с руководством не менее сложны. Есть два вида администраторов: менеджеры учреждений культуры и личные агенты, которые ведут переговоры о контрактах, представляют интересы артистов и получают за это проценты от сумм, заработанных дирижером. Поскольку на подготовку оперы уходит очень много времени, комиссия за оперные контракты обычно равна десяти процентам, в то время как с концертных выступлений с оркестром отчисления составляют пятнадцать процентов. Если дирижер не является музыкальным руководителем и хочет известности, он нанимает пиар-менеджера, которому обычно нужно платить авансом. Расходы в этом случае просто огромны. В годы после падения Берлинской стены артисты, выступавшие в Германии, платили немецкие налоги из своих гонораров, и, кроме того, с них брали «налог на объединение страны». Как-то раз, после того как мы вычли из заработанного все эти платежи и комиссии менеджерам (европейским и американским), моя жена сказала: «Придется тебе прекратить работать. Это нам не по карману».
В конечном счете менеджеры живут за счет наших зарплат и должны в нас верить. Они должны «управлять» нами и нашими ожиданиями в надежде достаточно заработать на своих самых высокооплачиваемых музыкальных руководителях, на их гастрольных турах и любых других источниках доходов, которые могут поддержать их компанию. Когда-то менеджеры вроде бывшего генерального директора Columbia Artists Рональда Уилфорда могли оказывать огромное давление на оркестры и оперные театры, чтобы те нанимали определенных дирижеров, поскольку также представляли многих певцов и солистов. После смерти Уилфорда в 2015 году эта реальность ушла в прошлое.
Администрация учреждений культуры — другая сторона уравнения. После того как приглашенный дирижер отработает положенное время, нужно решить, стоит ли приглашать его снова. Закулисные обсуждения — дело темное, и мы, дирижеры, ничего не знаем о таких вещах. Музыкальным руководителям часто бывает неудобен успех приглашенного дирижера: ведь это означает, что появился новый соперник! Оркестранты заполняют оценочные ведомости, что никогда не делается в открытую.
Порой дирижерам предлагают поменяться с другими музыкальными руководителями и выступить в качестве приглашенных маэстро. Иногда дирижера берется поддерживать государство, желающее приобщиться к престижу своего гражданина, который занимает важную позицию в другой стране. Бывает, что правительство помогает дирижеру в рамках программы по поддержке культурного наследия. Порой частные компании договариваются с оркестрами и формируют зарплатный фонд дирижера. Это не всегда меритократия.
Менеджеры учреждений культуры часто работают в связке с музыкантами. Наладив продуктивные отношения с администрацией, дирижер может рассчитывать на годы совместной работы. Однако при смене руководства очень вероятно, что и дирижеру придется попрощаться с организацией, потому что новые люди наверняка захотят привести с собой новые таланты. Густав Малер прибыл в нью-йоркскую Метрополитен-оперу в 1908 году, когда его выдавила из Вены мощная антисемитская клика. Спустя год глава миланского «Ла Скала» Джулио Гатти-Казацца был назначен директором Метрополитен-оперы, сменив Генриха Конрада, который учился в Австрии. Малер расстроился, когда узнал, что его более молодой соперник Артуро Тосканини будет дирижировать новой постановкой «Тристана и Изольды» в Метрополитен-опере. С этой вещью Малер познал триумф, она «принадлежала» ему. Кроме того, он понимал, что, поскольку Тосканини будет исполнять ее всего через восемь с половиной месяцев после его собственной версии, да еще и с новыми декорациями и костюмами, это, несомненно, размоет в глазах публики связь Малера с произведением и подорвет его репутацию. Когда Тосканини выступил с «Тристаном и Изольдой» 27 ноября 1909 года, Малер счел это публичным унижением и ушел из Метрополитен-оперы на Тридцать девятой улице в Карнеги-холл на Пятьдесят седьмой, в Нью-Йоркский филармонический оркестр.
А вы, наверное, думали, что главное для дирижера — знать музыку? Конечно. Это так. Но важно знать и суровую правду жизни.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК