Акт третий ЖИЗНЬ РАДИ ДРУЖБЫ (1848 год — август 1861 года)
Некоторые из моих старых друзей отнеслись к моим музыкальным творениям отчужденно, с боязнью и недоброжелательностью. Я ни в коей мере не ставлю им это в упрек и не могу им отплатить тем же, так как постоянно испытываю искренний и глубокий интерес к их произведениям.
Ф. Лист. Письмо Р. Вагнеру
1848 год Лист встретил в Воронинцах в самом радужном настроении. Наконец-то после многих месяцев гастрольной гонки он чувствовал творческий подъем. А долгие вечерние беседы с Каролиной об искусстве, философии и религии лишний раз убеждали, что эта женщина создана для него, что их соединяет не только любовь, но и взаимопонимание. Каролина, во многом полная противоположность Мари д’Агу, готова была пожертвовать ради Листа своей родиной, положением и благополучием. Выше любви для нее стоял только Бог, и Лист, как никто другой, мог это понять и оценить.
Главное, Каролина полностью одобряла — в отличие, например, от Беллони — желание Листа отказаться от концертной деятельности. Она твердо решила отправиться вместе с ним в Веймар. После развода с князем Николаем Петровичем — влюбленные были уверены в помощи в этом деле великой герцогини Марии Павловны — Каролина жаждала обвенчаться с Листом и начать жизнь заново. Олицетворением всех этих надежд стала золотая дирижерская палочка, которую она подарила Листу со словами: «Лучше, если вы будете дирижировать, чем играть на рояле».
Опробовать подарок пришлось уже очень скоро. К началу февраля Лист был обязан вернуться в Веймар. 2-го числа, в день рождения великого герцога Карла Фридриха, он выступил в качестве дирижера; очередной придворный концерт состоялся 6 февраля. 16 февраля, в день рождения великой герцогини Марии Павловны, Лист встал за дирижерский пульт веймарского придворного театра. Под его управлением была дана опера «Марта»[361]. Одной из первых реформаторских мер, принятых Листом на посту придворного капельмейстера, было решение ежегодно в день рождения его благодетельницы ставить в Веймаре новую оперу немецкого композитора.
В начале «веймарского периода» творчества Лист напрямую столкнулся с трудностями, которые ему предстояло преодолевать на пути восстановления былой культурной славы города Шиллера и Гёте. Профессиональный уровень оркестрантов и певцов театра, мягко говоря, оставлял желать лучшего. Но даже этих скудных исполнительских сил катастрофически не хватало. Принять меры, перечисленные в письме капельмейстера великого герцога своему покровителю, оказалось не так-то просто, в первую очередь потому, что у Веймарского двора попросту не было на это средств. Увы, Веймар на деле оказался небольшим провинциальным городком, жившим воспоминаниями о своем славном прошлом да несбыточными мечтами о не менее славном будущем. Только такие романтики-энтузиасты, как Лист и его единомышленник, интендант веймарского придворного театра Фердинанд фон Цигезар[362], могли, забыв собственные интересы, отдавать все силы безнадежной борьбе за торжество искусства в маленьком немецком герцогстве.
Но как раз тогда, в конце февраля 1848 года, придворному капельмейстеру показалось, что торжество его идеалов близко.
Двадцать второго февраля в Париже произошла революция. 28 февраля Лист писал Каролине Витгенштейн: «Известия из Франции подтверждаются… Временное правительство. Ламартин — министр иностранных дел. Что я Вам говорил?.. Франция находится в состоянии не только революции, но и республики»[363]. В письме от 1 марта Францу фон Дингельштедту[364] он еще более откровенен: «Как поэт Вы должны были затрепетать, узнав о той огромной роли, которую поэт [Ламартин] взял на себя в этой великой драме, являющейся до сих пор самой потрясающей страницей в истории нашего столетия… И что считаться с тем, что ценой за приход к власти наших идей являются наши головы!.. Однако я забыл, что ненавижу политику, и правда, впервые за последние пятнадцать лет у меня появилось сейчас желание — нет, не принять в ней участие, ибо я не разбираюсь в этом — но просто поговорить с другом о политике»[365].
Революция быстро перекинулась из Франции в Германию и Австрию. Уже 27 февраля в Бадене прошли массовые народные собрания и демонстрации. 3 марта выступили рабочие Кёльна, 6-го числа начались волнения в Берлине, 13 марта вспыхнуло народное восстание в Вене; 15 марта — в Пеште. Одним из лидеров Венгерского восстания стал поэт Шандор Петёфи[366]. Подъем национального духа чувствовался во всех слоях общества.
Под влиянием революционных событий Лист сочинил для мужского четырехголосного хора, солиста, вокального квартета и фортепьяно «Хор рабочих» (Arbeiterchor)[367], прославляющий борьбу за свободу людей труда. Тогда же им был написан вокальный квартет для мужских голосов «Веселый легион» (Die lustige Legion), посвященный созданному в Вене Академическому легиону[368].
Однако не стоит делать из Листа идейного революционера — его идеальные убеждения практически не соотносились с реальной политикой. Листу было свойственно общее для всех гуманистов его времени сострадание к беднейшим слоям общества и желание улучшить их долю. Каким образом? Уж конечно, не путем насилия и крови!
В отношении парижской революции 1848 года Лист проявил себя как стопроцентный романтик. Для него было главным, что поэт Ламартин вошел в правительство. Это ли не доказательство того, что вскоре всё изменится: отношение к искусству как к средству развлечения, отношение к художнику как к прислуге? Раз поэт управляет государством, значит, скоро искусство будет править миром и общество станет идеальным!
Вот истинная причина восторженного отношения Листа к революции. А если учесть, что в результате подъема национального духа, вызванного политическими потрясениями, появилась надежда на обретение родной Венгрией независимости, картина становится полной.
Интересно сравнить «революционное кредо» Листа с идеалами его «рокового друга» Рихарда Вагнера — эти две личности трудно рассматривать по отдельности.
В то время когда Лист только начинал в Веймаре театральную деятельность, Вагнер в Дрездене уже с горечью убедился, что реформа театра, которой он добивался, в тогдашних условиях неосуществима: те, чье искусство продажно, никогда не отдадут бразды правления без борьбы. Нужна революция, которая сметет без сожаления несправедливость существующего строя, позволит появиться новому человеку, способному создать новое искусство.
Очевидно, что политическая революция не имела ничего общего с той идеалистической культурной революцией, о какой мечтали Вагнер и Лист, овеянной романтической идеей достижения идеального мира, призыв к которому есть первейшая задача художника.
В «Искусстве и революции» Вагнер емко обобщает цели своей революции, прекрасно отдавая себе отчет, что сил искусства для переустройства мира явно недостаточно: сначала нужно завоевать ту арену, на которой могло бы развиваться свободное искусство. «Когда же общество достигнет прекрасного, высокого уровня человеческого развития — чего мы не добьемся исключительно с помощью нашего искусства, но можем надеяться достигнуть лишь при содействии неизбежных будущих великих социальных революций, — тогда театральные представления будут первыми коллективными предприятиями, в которых совершенно исчезнет понятие о деньгах и прибыли; ибо если благодаря предположенным выше условиям воспитание станет всё более и более художественным, то все мы сделаемся художниками в том смысле, что, как художники, мы сумеем соединить наши усилия для коллективного свободного действия из любви к самой художественной деятельности, а не ради внешней промышленной цели»[369].
Лист мог бы подписаться под каждым словом!
При этом сострадание беднейшим слоям общества играло и для Вагнера не последнюю роль. Он признавался, что «всегда поневоле принимал сторону тех, кто страдал, и никогда никакая созидательная идея не могла заставить его отречься от этой симпатии». Что уж говорить о Листе, для которого гуманизм был основой мировоззрения; достаточно вспомнить его нравственные терзания после поездки в Лион.
Итак, в событиях 1848–1849 годов и Вагнер, и Лист видели лишь «проявление духа Революции» и идеализировали его. Другими словами, были верны революционному романтизму.
Между тем Каролина Витгенштейн решилась, наконец, покинуть Российскую империю. Продав одно из своих имений, она вместе с дочерью Марией направилась в Силезию, в Кшижановице (Krzyzanowice), в имение друга Листа, Феликса фон Лихновского (кстати, в 1794–1796 годах там по приглашению деда Феликса, Карла фон Лихновского (1761–1814), гостил Бетховен).
Двадцать шестого марта Лист выехал из Веймара для встречи с любимой. Его волнение день ото дня усиливалось. Российская империя в связи с революционными волнениями в Европе закрывала границы. Сможет ли Каролина выехать беспрепятственно? Две недели тяжелого ожидания… Наконец влюбленные воссоединились.
Вторую половину апреля Ференц и Каролина провели в Греце — другом имении гостеприимного князя Лихновского, где Лист уже жил два года назад. Прежде чем отправиться в Веймар, они решили немного попутешествовать. Лист очень хотел показать Каролине места своего детства. Возможно, он подсознательно стремился излечить незаживающую рану от обиды, нанесенной ему Мари д’Агу, не раз отказывавшейся ехать на его родину.
Сначала Лист и Каролина отправились в Прагу, оттуда в Вену, наконец, в Кишмартон. Но поездку пришлось прервать: революционные волнения нарастали, продолжать путешествие стало небезопасно.
По дороге в Веймар путешественники остановились на несколько дней в Дрездене. Здесь произошла очередная встреча Листа и Вагнера, весьма показательная для развития их отношений. Вот как описывает ее сам Вагнер:
«Вскоре после роковых мартовских дней и незадолго до окончания партитуры „Лоэнгрина“ он в одно прекрасное утро обрадовал меня неожиданным посещением. Лист приехал из Вены, где пережил дни баррикад, и направлялся в Веймар, чтобы поселиться там надолго. Мы провели вместе вечер у Шумана. Сначала музицировали, потом диспутировали, и диспуты наши благодаря разладу между Листом и Шуманом во взглядах на Мендельсона и Мейербера закончились тем, что наш хозяин, обозлившись, ушел к себе в спальню и долго к нам не выходил. Этим он поставил нас в очень странное, не лишенное комизма положение, о котором мы весело говорили на обратном пути домой. Редко удавалось мне видеть Листа в таком легкомысленно-живом настроении, как в эту ночь, когда, выйдя вместе со мной и концертмейстером Шубертом, он во фраке, несмотря на довольно резкий холод, каждого из нас проводил до квартиры»[370].
Именно после дрезденской встречи Лист уже не просто оказывал покровительство Вагнеру, а помогал другу и единомышленнику, о чем красноречиво свидетельствует их переписка, отныне носившая непринужденный дружеский характер: в вагнеровских письмах обращение «милостивый государь» было заменено на «любезный друг», а подпись «покорный слуга» на «вечно твой Рихард Вагнер».
Наконец, в первых числах июля Лист и Каролина прибыли в Веймар. Для соблюдения приличий она остановилась в замке Альтенбург (Altenburg)[371], а он — в гостинице «Эрбпринц» (Erbprinz). Листа уже ждало письмо Вагнера, датированное 23 июня, отправленное сразу же после их дрезденской встречи:
«Мой превосходный друг! Недавно Вы сказали, что временно закрыли свой рояль, из чего я заключил, что на короткое время Вы стали капиталистом. Моя же судьба складывается неудачно, и внезапно мне пришло в голову, что, возможно, Вы могли бы помочь мне. Я решил сам издать три свои оперы… для этого мне требуется 5000 талеров. Могли бы Вы их мне достать? Есть ли у Вас самого деньги на это или, может быть, Вы знаете кого-нибудь, кто ради Вас предоставил бы в мое распоряжение такую сумму? Разве не было бы чрезвычайно интересно, если бы Вы стали издателем-владельцем моих опер? Чтобы я вновь стал человеком, человеком, который мог бы жить, художником, который больше никогда в жизни ни у кого не просил бы ни гроша, который довольствовался бы тем, что может самоотверженно, с радостью работать. Дорогой Лист, этими деньгами Вы выкупили бы меня из рабства. Как крепостной, я, наверное, стоил бы таких денег, как Вы полагаете?»[372]
Четвертого июля Лист написал ответ, в котором, в частности, сообщил: «…поехать сейчас в Дрезден для меня невозможно, но, быть может, Бог даст и обстоятельства мои сложатся так, что я смогу предложить Вам как искренний и преданный Ваш почитатель и друг свои незначительные и весьма сокращающиеся услуги»[373].
В свое время баварского короля Людвига II будут упрекать в том, что он расходует на Вагнера огромные средства; с учетом разницы доходов короля и композитора Лист тратил на своего друга ничуть не меньше. Пожалуй, с этого письма берет начало та поистине отеческая забота, которой Лист окружал Вагнера всю дальнейшую жизнь.
В августе Вагнер на несколько дней прибыл в Веймар и позже признавался: «Наше сердечное кратковременное свидание произвело на меня ободряющее, в высшей степени благодетельное впечатление»[374].
Безмятежность первых месяцев пребывания в Веймаре была нарушена ужасным известием: 18 сентября во время беспорядков во Франкфурте-на-Майне был убит Феликс фон Лихновский. Лист тяжело пережил его смерть. Портрет друга висел у Листа в доме рядом с портретами его детей и гениев искусства.
Это было только начало череды трагических потерь 1848–1849 годов…
Лист пытался, как всегда, найти утешение в творчестве. Продолжая работать над симфонической поэмой «Что слышно на горе», он одновременно закончил новую — «Прелюды (по Ламартину)» — Les Pr?ludes (d’apr?s Lamartine), которая первоначально была написана как вступление к мужскому хору «Четыре стихии» на стихи Ж. Отрана. Фактически «Прелюды» явились первым завершенным произведением нового жанра, но в результате четырех редакций 1850–1854 годов получили третий номер в ряду тринадцати симфонических поэм Листа. В итоговом варианте в качестве литературного источника он остановился на стихах Ламартина.
Перед Листом лежала партитура «Тангейзера», присланная Вагнером еще в 1846 году. Прекрасная возможность на деле доказать новому другу преданность общему делу и начать пропагандировать его сочинения! 12 ноября 1848 года в Веймаре Лист впервые дирижировал исполнением увертюры к «Тангейзеру». Тогда же он решил для торжественного празднования дня рождения великой герцогини Марии Павловны поставить в веймарском придворном театре именно эту оперу. Времени на разучивание партий и репетиции оставалось катастрофически мало. Зато можно было полностью отдаться работе и на время забыть о тяготах действительности.
Девятого февраля 1849 года Лист писал Вагнеру: «Господин Вагнер, мой любезный друг! Вы, наверное, уже слышали от господина Цигезара о том, с каким всевозрастающим старанием, восхищением и симпатией разучиваем мы Вашего „Тангейзера“. Для всех нас было бы большой радостью, если бы Вы смогли присутствовать 15-го на последней репетиции и на другой день на спектакле»[375].
Вагнер приехать не смог и ответил письмом: «Дорогой мой друг Лист!.. Вот уже четыре года, как мой „Тангейзер“ был опубликован, но ни один в мире театр не счел нужным поставить его. Нужно было Вам приехать издалека в этот маленький городок, где имеется крохотный придворный театрик, и тотчас же приступить к работе, чтобы продвинуть на шаг вперед расстроенные дела Вашего бедного друга. Не тратя времени на лишние разговоры, на препирательства, Вы взялись за совершенно новую для Вас работу и разучили мою оперу. Будьте уверены, что никто лучше меня не знает, что значит в настоящих условиях поставить такое произведение на сцене. Вам пришлось отдать работе всего себя, пожертвовать собой, напрячь все нервы, сосредоточить на этой работе все способности своей души и иметь перед своим взором лишь одну цель: показать миру творение своего друга, причем показать его хорошо и так, чтобы это принесло Вашему другу пользу. Дорогой мой друг, Вы, словно по волшебству, открыли меня… и я почерпнул из этого силы, чтобы устоять. Я и этим обязан Вам»[376].
Взявшись за постановку «Тангейзера», Лист действительно предпринял беспрецедентное по смелости дело, учитывая слабый состав исполнителей и многочисленные трудности. То, что премьера 16 февраля не только состоялась (автор приехать не смог), но и прошла успешно, можно считать заслугой Листа, и только его. Он поистине совершил чудо!
Спустя десять дней Лист писал Вагнеру: «Мой милый, дорогой друг, я так многим обязан Вашему удивительному гению, пылающим, мощным страницам „Тангейзера“, что обращенные ко мне слова Вашей благодарности просто приводят меня в смущение. Ведь это мне следовало бы быть благодарным за большую честь и счастье — иметь возможность дирижировать Вашей оперой. Прошу Вас, отныне и навсегда считайте меня своим самым ревностным и самым преданным почитателем; будете ли Вы вдали или вблизи, Вы всегда можете рассчитывать на меня и располагать мною»[377].
Манифестом творческого союза Листа и Вагнера является ответ Вагнера на это письмо: «…не думаете ли Вы, что мы оба стоим на самом лучшем пути? Мне кажется, что если бы этот мир принадлежал нам, мы доставили бы человечеству много радости. Я надеюсь, что мы всегда будем находиться в согласии друг с другом. Те, кто не хочет идти с нами, пусть отстают; так скрепим же наш союз»[378].
В довершение Лист написал и послал Вагнеру статью «Тангейзер и состязания певцов в Вартбурге» (Tannh?user und der S?ngerkrieg auf Wartburg). Вагнер был растроган: «Что ты сделал? Ты хотел рассказать людям о моей опере, а вместо этого создал настоящий шедевр! Из твоей статьи, так же как из твоего дирижирования, родилась новая, исходящая из глубин твоей души, совершенно новая вещь»[379].
Вскоре представился случай не только помочь другу в творческом плане, но и напрямую спасти его. В мае 1849 года Вагнер принял участие в Дрезденском восстании, за что был объявлен государственным преступником. Мы не будем здесь разбирать, насколько правомочно считать Вагнера политическим революционером и в чем конкретно выражалось его участие в восстании[380]. Главное, что Вагнеру пришлось спешно бежать из Дрездена. 13 мая он приехал в Веймар к Листу. «Объяснить моему другу, что я на этот раз попал в Веймар не совсем обычным путем, не в качестве королевского капельмейстера, представлялось задачей довольно трудной. Я и сам в точности не знал, как относится ко мне официальное правосудие. Не знал, совершил ли я что-нибудь противозаконное или нет. Прийти к какому-нибудь определенному по этому поводу мнению я не мог»[381].
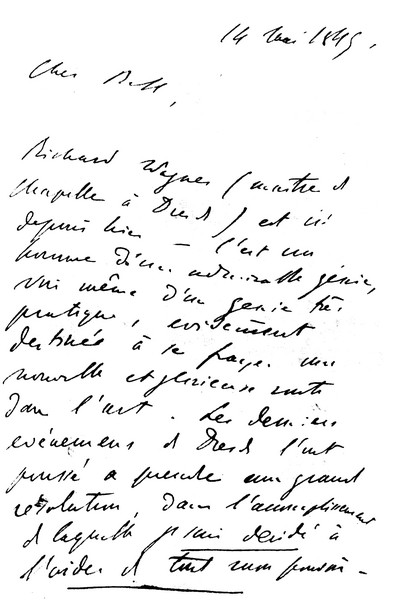
Автограф письма Листа Гаэтано Беллони от 14 мая 1849 года
Четырнадцатого мая Лист писал Гаэтано Беллони: «Дорогой Белл! Рихард Вагнер (дрезденский капельмейстер) находится здесь со вчерашнего дня. Вот уж он — удивительный гений, гений, которому, со всей очевидностью, суждено проложить новый и славный путь в искусстве. Последние события в Дрездене заставили его принять судьбоносные планы, в осуществлении которых я желаю помочь ему, приложив все мои силы»[382].
Шестнадцатого мая в Дрездене был отдан, а спустя три дня официально обнародован приказ об аресте Вагнера. 22 мая, в день рождения Вагнера, в Веймар приехала его жена Вильгельмина (Минна) Планер (Planer, 1809–1866) — убедить мужа бежать из Германии, чтобы не подвергнуться аресту. Вагнеру необходимо было как можно скорее покинуть пределы Германии. Уже вечером 23 мая он спешно отправился в Йену, а оттуда перебрался в Цюрих — с помощью Листа, доставшего ему паспорт на имя профессора Видмана[383] и приславшего деньги на аренду квартиры. Лист мог вздохнуть свободно: друг был спасен!
Из Цюриха Вагнер имел возможность спокойно перемещаться по Европе, лишь путь в Германию был ему заказан. Лист остался на родине Вагнера его своеобразным душеприказчиком — тот доверил другу самое дорогое — судьбу своих произведений.
Минна за мужем в изгнание не последовала. Вскоре он получил письмо: жена сообщала, что считает их дальнейшую совместную жизнь невозможной, обвиняла в том, что он «бессовестно разрушил до основания всё устроенное нами здание» и пренебрег положением в обществе, которое ему уже больше никогда не удастся занять, и в довершение предрекала, что отныне вряд ли какая-нибудь другая женщина захочет связать с ним судьбу.
Вагнеру часто ставят в вину «развратный образ жизни», упуская из виду, что его брак с Минной, юридически продолжавшийся 30 лет, до ее смерти в 1866 году, фактически распался значительно раньше. Минна и Вагнер слишком различались характерами, чтобы понимать друг друга, без чего счастливая семейная жизнь невозможна. Вагнер, безусловно, был тяжелым человеком, во многом авторитарным и эгоистичным. Но инициатива разрывов — а их было несколько — всегда исходила от Минны, супруг же старался сглаживать острые углы, раскаивался в своих поступках и очень часто первым делал шаги к примирению.
Между тем и личная жизнь Листа всё никак не налаживалась. На посланное Каролиной Витгенштейн Николаю I прошение о разводе пришел отказ. Великая герцогиня Мария Павловна внушала влюбленным, что не нужно терять надежду, и обещала походатайствовать за них перед братом.
Тем временем Лист решился открыто переехать из гостиницы «Эрбпринц» в Альтенбург к Каролине. Теперь он особенно сильно желал оседлой спокойной жизни, наполненной творчеством. Примерно в это время Лист создал, пожалуй, свой самый поэтичный и возвышенный цикл из шести небольших пьес, пронизанных тихой романтической грустью, — «Утешения» (Consolation) по одноименному циклу стихов Шарля Огюстена де Сент-Бёва (de Sainte-Beuve; 1804–1869). Интересно, что четвертая пьеса, Quasi adagio, написана на мелодию великой герцогини Марии Павловны.
Всё лето шли приготовления к торжествам по случаю столетия со дня рождения Гёте, образ которого олицетворял былую славу Веймара как культурной столицы Германии. Тогда же в Веймар приехал Йозеф Иоахим[384] и занял место концертмейстера веймарского придворного театра.
В числе прочих мероприятий было решено поставить поэтическую драму Гёте «Торквато Тассо», законченную им как раз в Веймаре в 1789 году. Лист обязался в кратчайшие сроки написать к постановке несколько музыкальных номеров, в частности увертюру и торжественный марш.
Двадцать восьмого августа, в день рождения Гёте, под управлением Листа была впервые исполнена симфоническая поэма «Тассо. Жалоба и триумф» (Tasso. Lamento е Trionfo), завершенная им 12 августа. Ее первая редакция представляет собой увертюру к гётевскому «Торквато Тассо». В музыкальную канву произведения вплетена одна из песен гондольеров, ранее использованная Листом в первой пьесе цикла «Венеция и Неаполь». (В период с 1850 по 1854 год Лист сделал еще три редакции; в последней редакции «Тассо» исполнялся опять же в Веймаре 19 апреля 1854 года.)
«Торжественный марш к юбилейному чествованию Гёте» (Festmarsch zur Goethejubil?umsfeier) прозвучал в качестве музыкального антракта на том же праздничном представлении «Торквато Тассо». («Марш» тоже был позднее переработан Листом и исполнен в Веймаре на торжествах по случаю открытия памятника Гёте и Шиллеру работы Ритшеля[385] 4 сентября 1857 года.)
После окончания юбилейных мероприятий Лист решил немного отдохнуть. В первых числах сентября он вместе с Каролиной и Марией отправился на саксонский курорт Бад-Айльзен (Bad Eilsen). Туда долетали тревожные вести из Венгрии.
После того как 7 апреля 1848 года было образовано новое правительство Венгрии во главе с премьер-министром графом Лайошем Баттяни де Неметуйваром (Batthy?ny de N?met?jv?r, 1807–1849), революция стала набирать обороты. К весне 1849-го венгерские войска уже взяли под контроль всю территорию Венгрии. 14 апреля была объявлена независимость от австрийской монархии. Правителем-президентом страны стал Лайош Кошут (Kossuth; 1802–1894), бывший в правительстве Баттяни министром финансов. «Мои соотечественники только что и чрезвычайно просто сделали великие дела. Я радуюсь этому до глубины сердца»[386], — писал Лист Мари д’Агу.
Однако новое венгерское государство просуществовало недолго. 21 июня 1849 года по настоятельной просьбе Австрийского двора в Венгрию были введены русские войска под командованием генерал-фельдмаршала Ивана Федоровича Паскевича (1782–1856). Одновременно австрийцы предприняли новое наступление. С такой силой венгерская армия справиться не смогла. 11 августа венгерское правительство ушло в отставку. Кошуту удалось эмигрировать в Турцию[387]. 13 августа была подписана капитуляция; 5 сентября сдался последний оплот революции — крепость Комаром (Kom?rom). 6 октября 1849 года Баттяни и 13 генералов, командовавших венгерскими войсками, были казнены в Араде.
Известие о поражении Венгерской революции произвело на Листа самое тягостное впечатление. Казнь графа Баттяни, с которым он был знаком и которому открыто симпатизировал, он переживал мучительно, как и гибель многих других венгерских патриотов. В это время он написал одно из своих самых трагических произведений — «Погребальное шествие. Октябрь 1849» (Fun?railles. October 1849) — № 7 в фортепьянном цикле «Поэтические и религиозные гармонии». Я. И. Мильштейн считает: «…„Погребальное шествие“ передает картину великого народного горя; грозно и мрачно звучит погребальный звон, который сменяется медлительно-мерным похоронным маршем, как бы выражающим тяжелую поступь целого народа; далее всплывают воспоминания о близких людях, сложивших голову за родину, — задушевные, печальные, словно „вызывающие слезы“; затем в торжествующих звуках фанфар возвещается слава героям и, наконец, снова с огромной силой звучит похоронный марш… Так высказал Лист свою боль по поводу национальной катастрофы, а вместе с тем и боль угнетенных венгерцев, сохранивших верность своей родине»[388].
В то время Лист завершил еще одно великое и трагическое сочинение для фортепьяно с оркестром — «Пляска смерти. Парафраза на Dies irae» [389](Totentanz. Paraphrase ?ber Dies irae), которое начал писать еще в 1838 году под впечатлением от фрески «Триумф смерти» Андреа Орканьи[390]. Ныне «триумф смерти» происходил в действительности…
Одновременно Лист вновь обратился к неоконченной «Революционной симфонии». Меняя полностью всю структуру произведения, он планировал разделить его на пять частей: первая — «Эпитафия героям» (H?ro?de fun?bre), вторая — «Душа моя мрачна» (Tristis est anima теа), третья должна была основываться на «Ракоци-марше» и «Марше Домбровского», четвертая — на «Марсельезе», пятая — представлять собой псалом, исполняемый хором с оркестром. Но и на этот раз симфония осталась незавершенной. Лишь работа над первой частью была доведена до конца в 1850–1854 годах; в итоге она стала восьмой симфонической поэмой под тем же названием.
Лист переживал тяжелый душевный кризис. Однако нашлись люди, которые не только не были способны понять его состояние, но и обвиняли его… в предательстве интересов родины и даже напрямую оскорбляли его. Одна из самых злых нападок в адрес Листа принадлежит Генриху Гейне. В его знаменитом стихотворении «В октябре 1849» есть строки:
…А Лист? О, милый Франц, он жив!
Он не заколот в бойне дикой,
Не пал среди венгерских нив,
Пронзенный царской иль кроатской[391] пикой.
Пусть кровью изошла страна,
Пускай раздавлена свобода, —
Что ж, дело Франца сторона,
И шпагу он не вынет из комода.
Он жив, наш Франц! Когда-нибудь
Он сможет прежнею отвагой
В кругу своих внучат хвастнуть:
«Таков я был, так сделал выпад шпагой»…[392]
Ядовитая ирония Гейне выставляет в неприглядном свете в первую очередь самого автора. Она во многом объясняется физическим состоянием Гейне — прогрессирующий паралич делал его обозленным на всех и вся. В чем поэт обвинял Листа — в том, что он остался в живых, когда другие погибли? что с оружием в руках не сражался на баррикадах? Представить себе Листа потрясающим пресловутой шпагой невозможно. Он ни при каких обстоятельствах не смог бы пустить в ход оружие. Обвинять его в том, что он не отправился в пекло войны, — всё равно что поставить ему в вину, к примеру, личное неучастие в восстановлении разрушенных домов после наводнения 1838 года. И тогда, и теперь Лист действовал по мере сил и возможностей: поддерживал соотечественников денежными средствами (он неоднократно пересылал в Венгрию крупные суммы для нужд борцов за независимость) и творчеством. Поэтому никак нельзя сказать, что Лист находился в стороне от трагических событий в Венгрии. Он душой был со своим народом, который понес бы еще одну невосполнимую утрату, если бы Лист, гордость венгерской нации, погиб в расцвете таланта.
А о том, что талант композитора действительно обрел зрелость, свидетельствуют два произведения, над которыми он работал в трагическом 1849 году: Первый Es-dur[393] и Второй A-dur фортепьянные концерты. Первый концерт был завершен в 1849 году, Второй представлял собой новую редакцию варианта 1839 года (впоследствии Лист переделывал его в 1853, 1857 и 1861 годах).
Однако череда смертей 1849 года еще не закончилась. 17 октября ушел из жизни Шопен. Он так и не стал Листу настоящим другом, но его кончину Лист переживал, словно потерю близкого человека. И хотя их натуры были во многом противоположны, они были «родными братьями по отцу-фортепьяно и по матери-музыке». Лист решил в память о Шопене написать книгу о нем. Уже 14 ноября 1849 года он обратился к старшей сестре Шопена Людвике Енджеевич (1807–1855) с просьбой сообщить ему ряд сведений. Над своей монографией Лист работал (помогала ему Каролина Витгенштейн, фактически исполнявшая обязанности его секретаря) с 1849 по 1851 год. Второе, дополненное издание вышло в 1879-м.
В послесловии к изданию книги на русском языке Я. И. Мильштейн написал: «Среди книг, посвященных великим музыкантам, книга Листа о Шопене занимает совершенно особое место. Значение ее определяется прежде всего тем, что она написана не рядовым человеком — литератором, искусствоведом, критиком, — а истинно великим музыкантом-художником. Перед нами не просто книга о Шопене, а книга одного великого человека о другом, книга гения о гении. Больше того: перед нами своеобразнейший исторический и психологический документ эпохи. Это — взволнованная автобиографическая исповедь художника, остро чувствующего свое одиночество в буржуазном обществе и смело выступающего в защиту благородных идеалов прогресса и гуманизма. Можно сказать без преувеличения, что из всего написанного художниками о художниках вряд ли найдется еще книга, в которой бы с такой любовью и преданностью, с таким пылким воодушевлением и вместе с тем с такой удивительной проницательностью и откровенностью один гений высказался о другом. <…> Естественно, что книга Листа о Шопене вызывает по меньшей мере двойной интерес — и как книга о Шопене и как книга о самом Листе. Почти всюду, где Лист характеризует искусство Шопена, он, в сущности, говорит и о своем искусстве, о своем отношении к жизни, к людям, о своих творческих целях. <…> Получилась книга большого обобщающего значения. Она не только раскрывает нам облик Шопена, но и дает возможность постичь эстетические воззрения самого Листа. Больше того: она как бы резюмирует основные устремления художественной мысли романтической эпохи»[394].
В свете вышесказанного показательно, что в книге о коллеге Лист написал: «Миссия художника или поэта, наделенного гением, — не поучать истине, не наставлять в добре, на что имеет право лишь Божественное откровение и возвышенная философия, просвещающая разум и совесть человека. Миссия поэтического и художественного гения в том, чтобы окружить истину сиянием красоты, пленить и увлечь ввысь воображение, красотой побудить к добру тронутое сердце, поднять его на те высоты нравственной жизни, где жертвенность превращается в наслаждение, геройство становится потребностью, где com-passion[395] заменяет passion[396], любовь, ничего сама не требуя, всегда находит в себе, что может дать другим»[397]. Это — жизненное кредо самого Листа.
Даже среди потрясений 1849 года Лист не забывал о своих детях, растущих в далеком Париже. 22 октября, в день своего рождения, он писал дочери Бландине: «Я целую тебя, бедное мое дитя; в ответ на мою молитву да снизойдет на тебя Божье благословение, и вместе с сестрой будь мне всегда утешением… я с радостью вижу, что вы пишете всё лучше. Старайтесь писать, как можно более разборчиво и элегантно — не вздумайте в этом подражать мне!.. Не могла ли бы ты через бабушку, которая, согласно нашим планам, в конце декабря навестит меня в Веймаре, послать мне несколько своих разборов (например „Илиады“ и „Антигоны“), начисто переписанных и переплетенных в картон? Приложи к ним и несколько своих рисунков, я воздам им должное, вставив их в рамки и повесив над своим письменным столом»[398].
Родина, семья, друзья… Друзья порой являются довольно тяжелым бременем. Незадолго до дня рождения, 14 октября, Лист получил из Цюриха письмо Вагнера: «…Итак, речь идет вот о чем: как и откуда добыть средства к существованию? Неужели мой „Лоэнгрин“ ничего не стоит? Неужели и та опера, которую мне так хотелось бы довести до конца („Смерть Зигфрида“. — М. З.), тоже не имеет никакой цены? Конечно, в настоящую минуту, для современной публики, какая она есть, оперы эти должны показаться некоторой роскошью. Но, спрашивается, как быть с теми немногими, которые любят мои работы? И не должны ли они предоставить бедному, терпящему нужду творцу этих произведений если не награду за труд, то, по крайней мере, возможность идти вперед в своем творчестве? К торгашам обращаться не могу! Я могу обращаться только к тем, в ком чувствую настоящее благородство — не к князьям по положению, а к князьям по духу. И ради высшего, интимнейшего блага моей души мне приходится действительно искать не заработка, а именно милости. Если мы, немногие, в это презренное время торгашества не будем милосердно относиться друг к другу, то как же мы будем жить во имя искусства, во славу его?»[399]
Двадцать восьмого октября Лист отправил ему откровенный ответ: «Уже больше месяца меня удерживает здесь (в Бад-Айльзене. — М. З.) серьезная болезнь княжны М[арии]. В[итгенштейн]. Из-за нее возвращение в Веймар откладывается по крайней мере еще на месяц, а пока меня нет в Веймаре, я даже думать не могу о том, чтобы более или менее эффективно быть тебе полезным. Ты предлагаешь, чтобы я нашел покупателя для „Лоэнгрина“ и „Зигфрида“? Это наверняка будет нелегко, ибо оперы эти главным, более того, исключительным образом германские и потому их можно поставить не более как в пяти-шести городах. Ну, а как тебе известно, после дрезденских событий официальная Германия не благоволит к твоему имени. Дрезден, Берлин, Вена — во всяком случае, еще некоторое время — совершенно невозможная почва для твоих произведений… А потому, милый друг, до Рождества постарайся помочь себе сам, как можешь, так как мой кошелек в данный момент совершенно пуст, и, кроме того, ты ведь знаешь, что имущество княгини вот уже год никем не управляется и что ей грозит полная конфискация его. (Конфискация — точнее, взятие в опеку — имений Каролины Витгенштейн была вызвана не кознями ее супруга, а их „заброшенностью“, что по законам Российской империи было недопустимо. — М. З.) В конце года я рассчитываю на некоторые денежные поступления и тогда не премину послать тебе столько, сколько позволят мои весьма ограниченные средства, ведь ты знаешь, какие тяжелые обязанности лежат на мне. Прежде чем думать о себе, я должен надлежащим образом обеспечить свою мать и троих детей, живущих в Париже… Как ты знаешь, я уже более двух лет назад покончил с концертной деятельностью и не могу вновь неосторожно взяться за нее, не причинив этим большого вреда моей настоящей должности и, главное, моему будущему»[400].
Вагнер всё-таки сумел оценить благородство Листа, и без того много сделавшего для него. В письме от 5 декабря читаем: «Любезный друг мой Лист! Видит Бог, чем больше я думаю о своем будущем, тем глубже сознаю, какого друга я имею в твоем лице. При всём различии наших индивидуальностей всё более и более чувствую ту редкую привязанность, ту доброту, которую ты лелеешь по отношению ко мне, если, не считаясь со многими моими особенностями, без сомнения, несимпатичными для тебя, ты один — из всех моих друзей — оказываешь мне самое деятельное внимание. В этом ты настоящий поэт, с полною незаинтересованностью воспринимающий каждое явление жизни, во всей его правде, именно таким, каким оно представляется по существу»[401].
Лист не принадлежал себе ни до трагического 1849 года, ни после. Воистину, в его жизни com-passion заменила passion — самоотверженная любовь.
Лист планировал совершить в январе 1850 года поездку в Париж, где он должен был дирижировать увертюрой к вагнеровскому «Тангейзеру». Присутствие автора на концерте считалось обязательным. Но, несмотря на все усилия Листа, обещанное Вагнеру исполнение увертюры так и не состоялось. Не состоялась и их встреча…
Тем временем в Веймар к Листу приехал Иоахим Рафф, который стал исполнять при нем обязанности секретаря и помощника, не забывая и о собственном творчестве. Лист же был всецело занят подготовкой к первому исполнению своей законченной еще в прошлом году симфонической поэмы «Что слышно на горе», а также репетициями оперы Глюка «Ифигения в Авлиде» в редакции Вагнера, выбранной им для исполнения в день рождения великой герцогини Марии Павловны. Не последнюю роль в выборе сыграло то обстоятельство, что Вагнеру как автору новой редакции при постановке полагался гонорар.
В конце февраля симфоническая поэма «Что слышно на горе» впервые прозвучала под управлением Листа. (Впоследствии Лист трижды переделывал это произведение; первое исполнение последней редакции прошло 7 января 1857 года.)
С началом весны Лист приступил к подготовке торжеств по случаю открытия в Веймаре памятника «третьему веймарскому великану» — Гердеру[402], приуроченного к дню его рождения — 25 августа. Автором памятника стал австрийский скульптор Людвиг Шаллер (Schaller, 1804–1865). Лист задумал написать увертюру и восемь хоров к драме Гердера «Освобожденный Прометей» (1802).
Он получил от Вагнера из Парижа партитуру «Лоэнгрина» и письмо, датированное 21 апреля: «…Друг мой, я только что просмотрел несколько страниц партитуры „Лоэнгрина“ — вообще говоря, я не перечитываю никогда моих работ. Меня охватило невыразимо страстное желание увидеть эту вещь на сцене. Взываю к твоему сердцу. Поставь „Лоэнгрина“! Ты единственный человек, к которому обращаюсь с этой просьбой. Никому, кроме тебя, я не мог бы доверить осуществления этого дела. Но тебе поручаю его с полным и радостным спокойствием. Поставь, где хочешь, всё равно, хотя бы только в одном Веймаре! Уверен, что ты создашь все возможные и необходимые для этого средства и никаких препятствий не встретишь. Поставь „Лоэнгрина“! Пусть его рождение в мире будет делом твоих рук!.. Беллони (он поселился в Париже. — М. З.) сказал, что ты должен получить для меня за партитуру „Ифигении“ еще 500 франков. Если тебе это удастся, отошли деньги по адресу Беллони… Прощай, мой дорогой друг и брат!.. Не забывай твоего верного и благодарного Рихарда Вагнера»[403].
Лист тотчас взялся за дело. «Поверь, — писал он другу в июле, — что ты неизменно очень близок моему сердцу. Твоего „Лоэнгрина“ мы исполним в условиях самых исключительных и наиболее благоприятных с точки зрения успеха. Интендантство предоставило для этой цели 2000 талеров, чего в Веймаре на памяти людей еще не случалось. Не забыли мы и о прессе… Все участники — сплошной энтузиазм. Число скрипок мы увеличили с 16 до 18, бас-кларнет уже купили; из сущности и оттенков музыки ничто не будет потеряно; я взял на себя репетиции с фортепьяно, хором и оркестром… Думаю, не стоит и говорить, что мы не выпустили из музыки ни одного такта и, насколько хватит наших сил, поставим твою оперу на сцене во всей ее красе»[404].
Вагнер ответил горячей благодарностью: «Вот что я должен сказать: ты настоящий друг! Ничего другого не скажу, так как если теоретически я и всегда считал мужскую дружбу благороднейшей и возвышеннейшей формой человеческих отношений, то сейчас ты облек живою плотью мое воззрение на этот предмет. Ты один показал не только моему уму, но и моим чувствам, моему осязанию, что такое настоящий друг. Не благодарю тебя, потому что за это ты должен благодарить сам себя и радоваться, что ты именно такой, а не другой. Возвышенно иметь друга, но еще возвышенней быть другом самому. То обстоятельство, что я нашел такого человека, как ты, не только отрешило меня от страданий, связанных с изгнанием из Германии, но и стало для меня истинным счастьем, ибо сам я не мог бы извлечь для себя из Германии столько, сколько извлек из нее ты. Но для этого нужно быть тобою! Не могу писать тебе хвалу. Когда мы с тобой увидимся, скажу тебе ее живым словом. <…> Одно только меня беспокоит: что ради меня ты забываешь сам себя. А вернуть тебе то, что ты теряешь, я не могу. <…> Итак, если ты поставишь „Лоэнгрина“ с полным удовлетворением, то приготовлю для тебя и „Зигфрида“ — только для тебя и только для Веймара. Еще два дня назад я не поверил бы, что приду к такому решению. Вот чем я тебе обязан!.. Под твоим крылом мне так же хорошо, как ребенку под крылом матери. Но чем, кроме благодарности и любви, я могу ответить тебе за всё? Будь здоров! И позволь горячо прижать тебя к сердцу облагодетельствованного тобой друга Рихарда Вагнера»[405].
Август 1850 года был для Листа наполнен работой. 24-го числа начался трехдневный Гердеровский фестиваль. В этот день Лист представил веймарской публике свою увертюру «Прометей». (Впоследствии композитор переработал ее в пятую симфоническую поэму «Прометей», которую впервые исполнил 18 октября 1855 года.)
Двадцать пятого августа Лист в третий раз (второй спектакль состоялся 13 марта) дирижировал «Ифигенией в Авлиде». А 28-го, в день рождения Гёте, состоялась долгожданная премьера «Лоэнгрина» под управлением Листа, давшего ему, по словам Вагнера, «рождение в мире». После премьеры Лист сообщил другу о впечатлении, которое произвело его произведение на публику, съехавшуюся в Веймар, и обещал оказывать всяческое содействие скорейшей постановке «Лоэнгрина» на других европейских сценах. (Сам он в текущем году дирижировал в Веймаре «Лоэнгрином» еще два раза — 14 сентября и 9 октября.) А пока он предложил Вагнеру дописать для исполнения в Веймаре «заброшенную» «Смерть Зигфрида» и добился от великого герцога обещания заплатить автору гонорар в 500 талеров, если тот справится за год.
Считая, что в деле пропаганды нового искусства необходимо использовать художественное слово, Лист, как и в случае с «Тангейзером», не ограничился театральной постановкой — опубликовал по горячим следам брошюру «Лоэнгрин» (Lohengrin) с разбором оперы.
Двадцать пятого ноября Вагнер писал Листу из Цюриха: «Любезный друг! Статья твоя произвела на меня огромное, возвышающее душу, огненное впечатление. То, что художественные мои работы оказали на тебя такое большое действие, то, что ты немало собственных сил, сил выдающихся, употребил не только на пропаганду моих идей, но и на внутреннее их усвоение, наполняет меня глубоким, благостным умилением. Только два человека, выйдя из разных концов, встретились в самом сердце искусства и там, объятые восторгом сделанного открытия, протянули друг другу руки. Только теперь, в откровении такой радости, я могу принять, без всякого стыда, твое удивление, ибо я знаю, что если ты хвалишь мои способности, если одобряешь то, что мною создано, то этим ты выражаешь только радость, что мы встретились с тобою в самом сердце искусства. Прими же мою благодарность за удовольствие, которое ты мне доставил!»[406]
Тогда же Лист предложил Францу Дингельштедту переселиться в Веймар, чтобы иметь в его лице помощника и единомышленника в делах усовершенствования местного театра. Безоговорочного согласия не последовало, но он не терял надежды.
К заботам о друзьях прибавились заботы о семье. Каролина Витгенштейн самоотверженно налаживала быт в доме Листа. Ее опека порой бывала даже чрезмерна. Она уже считала детей Листа своими и решила, что должна внести вклад в их воспитание. Каролина вспомнила о своей старой французской гувернантке мадам Патерси де Фоссомброни (Patersi de Fossombroni; 1779–1864). Той было уже за семьдесят, и она всё еще жила в России. По согласованию с Листом Каролина обратилась к ней с просьбой взять на себя задачу воспитания его дочерей. Несмотря на преклонный возраст, мадам Патерси ответила согласием. О приезде новой гувернантки Лист известил мать письмом от 5 октября[407]. Правда, когда мадам Патерси приехала в Веймар, то слегла, утомленная длительным путешествием. В течение двух месяцев старушка жила в Альтенбурге, и Каролина ухаживала за ней. Наконец, гувернантка почувствовала себя достаточно окрепшей, чтобы совершить длинное путешествие до Парижа. В начале ноября мадам Патерси переступила порог апартаментов в доме 6 по улице Казимира Перье (rue Casimir P?rier), где проживала Анна Лист с внуками.
Каролина же с дочерью отправилась в Бад-Айльзен, климат которого благотворно влиял на слабое здоровье Марии. Лист на этот раз быстро вернулся с курорта — он должен был присутствовать на репетициях недавно завершенной оперы «Король Альфред» Иоахима Раффа.
Поначалу Бландина и Козима невзлюбили строгую и чопорную гувернантку (Даниель оставался на попечении бабушки). Козима писала отцу: «Совершенно покорившись Вашему желанию, я хочу исправить свой грех перед Вами. <…> Я жажду вновь увидеть Вас и в ожидании этого счастливого дня покоряюсь. Мы работаем, чтобы в будущем снискать честь нашему имени…»[408]
Масло в огонь подливала и Мари д’Агу. Она посчитала, что приезд в Париж мадам Патерси вызван только одной причиной — желанием Каролины и Листа окончательно отдалить от нее детей. То, что Мари лишь периодически появлялась на улице Казимира Перье, не мешало ей предъявлять свои материнские права. Она кое-как мирилась с тем, что детей воспитывала их бабушка, тем более что сама занималась ими, мягко говоря, не самоотверженно. Но терпеть присутствие около дочерей и сына бывшей гувернантки любовницы своего бывшего любовника было выше ее сил. Мари пылала гневом, в письмах сыпала клеветническими оскорблениями, но предложить альтернативу мадам Патерси так и не смогла, а потому не нашла ничего лучше, как почти на четыре года устраниться от участия в воспитании детей.
Надо отдать должное мадам Патерси — она полностью оправдала надежды. Под ее руководством девочки начали посещать концерты Берлиоза, а также познакомились с творчеством своего отца. Пьер Эрар (1796–1855), племянник старого друга и благодетеля Листа Себастьена Эрара, после смерти дяди унаследовавший фабрику музыкальных инструментов, в свою очередь, не оставил вниманием дочерей «венгерского гения». В его доме Козима впервые играла на рояле перед публикой. Ее способности к музыке были неоспоримы; растроганный Эрар послал ей в подарок рояль своего производства.
Лист же мог общаться с детьми только письмами. Его интересовало буквально всё, но особенно музыкальное развитие девочек. Он давал им ценнейшие советы и вел беседы, как с взрослыми музыкантами. 5 ноября он писал Бландине: «…Ты говоришь, что играла сонату d-moll Вебера, которую считаешь — из знакомых тебе пьес — одной из самых прекрасных. Я не знаю, какие сходные по жанру произведения ты до сих пор разучивала, и потому не очень-то могу проверить твои сравнения; главным образом я не знаю, почему тебе ближе именно эта соната, почему она сильнее действует на тебя. Будь так добра, в ближайшем своем письме напиши мне об этом подробнее, потому что говорить общие фразы — это примерно то же, что ничего не сказать, а поскольку я считаю важным, чтобы твой вкус во всё большей мере был проникнут каким-нибудь определенным чувством, я охотно обсудил бы с тобой причины, которые наверняка участвуют в этом… Какие этюды ты играешь для упражнения? Разучила ли ты 24 фуги и прелюдии „Хорошо темперированного клавира“ Баха? Ты найдешь у бабушки его старое издание, в свое время я пользовался им. Какие вещи Бетховена ты знаешь?.. Нежно поцелуй Козиму, это дорогое, превосходное создание, не ради греков и римлян, а от своего имени и ради отца, который посылает вам свое благословение и хранит вас в своем сердце»[409].
Поехать в Париж он пока не мог. Оставалось только ждать, когда судьба подарит им счастье встречи.
Утешением звучал голос друга. 24 декабря Вагнер послал Листу письмо, по-своему подводя итог 1850 года: «Дорогой мой друг, ты из маленького Веймара сумел сделать истинный очаг моей славы. Когда я просматриваю всё бесконечное множество подробнейших, часто чрезвычайно одухотворенных отзывов о „Лоэнгрине“, доходящих до меня оттуда, и когда я вспоминаю при этом, с какой завистливой враждебностью постоянно писались обо мне рецензии, например, в Дрездене, с какой печальной настойчивостью рецензии эти систематически распространяли обо мне в публике самые спутанные представления, Веймар кажется мне тем убежищем, где, наконец-то, я могу вздохнуть глубоко, могу дать столь отягченному сердцу полную свободу!»[410]
Всю зиму 1850/51 года Листу приходилось курсировать между Веймаром и Бад-Айльзеном, так как Каролина с дочерью с осени оставалась там под присмотром врачей. Беспокойство вызывало здоровье не только юной княжны. Каролина страдала хронической болезнью, симптомами схожей с сепсисом: каждые несколько месяцев на теле появлялись абсцессы, которые тогда лечили с помощью горячих припарок. Кроме того, периодически возникали отеки в суставах, которые сама княгиня называла ревматизмом.
В середине февраля, приехав в очередной раз в Бад-Айльзен, Лист нашел Каролину в тяжелом состоянии и вынужден был остаться с ней. Но к началу марта он вернулся в Веймар, чтобы дирижировать оперой своего друга Раффа. 9 марта состоялась премьера «Короля Альфреда». Вряд ли это произведение обрело бы столь быстро успешное сценическое воплощение без стараний Листа.
Постоянные метания между Бад-Айльзеном и Веймаром вымотали Листа. Лишь к началу апреля Каролине стало легче настолько, что она с дочерью смогла вернуться в Веймар. Лист всецело отдался театральным проектам и уже 12 апреля дирижировал очередным представлением «Лоэнгрина», а 13-го — симфонией Берлиоза «Гарольд в Италии». Выручка от концерта пошла вдовам и сиротам оркестрантов. 11 мая Лист вновь встал за дирижерский пульт — на сцене веймарского придворного театра в пятый раз прошел «Лоэнгрин».
Между тем его автор всё никак не мог решиться приступить к «Смерти Зигфрида», несмотря на данное Листу обещание и аванс, полученный от Веймарского двора. Он начал разрабатывать новый сюжет — «Юного Зигфрида» — в качестве первой части цикла о Зигфриде. При этом Вагнер искренне надеялся, что задуманную им героическую комедию будет легче поставить на веймарской сцене, чем серьезную и мрачную трагедию. Он сообщил свой план другу, и тот его всецело одобрил.
Семнадцатого мая Лист писал: «Ты, право же, совершенно невозможный парень, перед которым каждый человек трижды должен снять шляпу. Ты знаешь, что я искренне рад благополучному завершению твоей пьесы и твердо верю в твою оперу. Но до присылки „Юного Зигфрида“ (1 июля 1852 г.) следует хранить полное молчание о нем и не занимать им людей понапрасну. Здесь, за исключением Цигезара, никто ничего о нем не знает, и нам важно, чтобы в кругах публики о нем не проронили бы ни слова. Последнее (5-е) представление „Лоэнгрина“ (в прошлое воскресенье) было особенно впечатляющим. Певцы и оркестр приблизились к пониманию оперы и к тому, чтобы сделать ее понятной для публики. Зал был полон, разумеется, в большей его части гостями из Эрфурта, Наумбурга и другими любопытными соседями; ибо, откровенно говоря, наши веймарцы, за исключением нескольких десятков человек, еще не доросли до того, чтобы принимать участие в таком исключительном произведении. То, что „Лоэнгрин“ в этом сезоне шел на сцене в пятый раз — своего рода чудо, которым мы обязаны только двору. Герцогиня (Вильгельмина Мария Луиза София Нидерландская. — М. З.), супруга наследника трона, высказала определенное желание увидеть именно этот спектакль, когда она посетит театр впервые после родов. <…> На закрытии театрального сезона вновь пойдет „Лоэнгрин“ или „Тангейзер“…»[411]
В это время у Листа, возобновившего педагогическую деятельность, появился новый ученик: в начале июня 1851 года по рекомендации Вагнера к нему приехал молодой юрист Ганс Гвидо барон фон Бюлов (von B?low, 1830–1894).
Вагнер свел знакомство с ним еще в 1846 году. Ганс с детства отличался выдающимися музыкальными способностями, но у его родителей (отец Ганса был писателем) эта склонность понимания не нашла. Они настаивали на юридической карьере, и сын, не найдя сил противиться родительской воле, в 1848 году поступил на юридический факультет Лейпцигского университета, а через год перевелся в Берлинский университет, но, поняв, что без музыки загубит свою жизнь, взбунтовался. Осенью 1850 года, узнав, что Вагнер теперь живет в Цюрихе, молодой человек без гроша в кармане тайком сбежал от отца, жившего после развода в доме на Боденском озере, и в один прекрасный день появился на пороге квартиры музыканта. Убедившись в наличии у юноши настоящего таланта, в том числе дирижерского, Вагнер составил ему протекцию при Цюрихской опере и в театре Сен-Галлена. Несколько с блеском проведенных спектаклей дали Вагнеру основания — на этот раз уже сообразуясь с желанием матери Ганса, пересмотревшей свои взгляды на карьеру сына, — рекомендовать его Листу.
Лист и сам встречался с семейством фон Бюлов — в 1844 году в Дрездене. Ганс с матерью приезжал в Веймар на торжества, посвященные Гердеру, в августе 1850-го. Возможно, именно тогда у юноши созрел план «побега от юриспруденции».
Как бы то ни было, Лист встретил младшего Бюлова с распростертыми объятиями. Такого талантливого ученика у него еще не было. Год назад он с горечью признавался: «Большую часть времени я трачу на то, чтобы изобретать для учеников конечности, которых они не имеют. До сих пор я не нашел еще ни одного такого ученика, который бы головой и сердцем соответствовал моим желаниям и моему художественному честолюбию»[412]. Теперь такой человек наконец-то появился. Полное совпадение музыкальных вкусов и творческих задач делало их по-настоящему родственными душами. Ганс фон Бюлов в скором времени стал для Листа одним из самых близких людей.
После окончания театрального сезона Лист имел возможность отдохнуть и попутешествовать. В конце июля он вместе с Каролиной отправился в Дрезден, где встречался с Робертом Шуманом и его женой Кларой. К сожалению, некоторое неприятие искусства Листа не позволило Шуману оценить его новые произведения, в частности только что написанные «Этюды трансцендентного исполнения» (Etudes d’ex?cution transcendante), среди которых были такие шедевры, как «Мазепа» (Mazeppa), «Блуждающие огни» (Feux follets), «Героика» (Eroica), «Дикая охота» (Wilde Jagd), «Метель» (Chasse-neige). «Этюды трансцендентного исполнения» — не просто виртуозные пьесы, а глубокие прочувствованные образы, созданные зрелым мастером, вершина «музыкальной живописи», настоящий манифест новой фортепьянной школы.
Характерно, что, несмотря на холодное отношение со стороны Шумана, Лист на протяжении всей жизни неизменно исполнял и пропагандировал произведения коллеги и называл его не иначе как гением. Портреты Роберта и Клары соседствовали в Альтенбурге с портретами Берлиоза и Вагнера.
Кроме «Этюдов» Лист завершил в 1851 году Шестую симфоническую поэму «Мазепа». Правда, ее первого исполнения пришлось ждать почти три года — до 16 апреля 1854-го.
В середине октября Лист и Каролина вернулись в Веймар. Очередные попытки придворного капельмейстера увеличить состав театрального оркестра и докупить недостающие инструменты потерпели фиаско. Лист уже почти опустил руки, но 20 ноября получил письмо Вагнера, в котором тот делился более чем смелыми планами создания грандиозной тетралогии «Кольцо нибелунга»[413]:
«…Замысел этот простирается на три драмы: 1. „Валькирия“, 2. „Юный Зигфрид“, 3. „Смерть Зигфрида“. Но чтобы с надлежащей отчетливостью предстала вся картина, необходимо этим трем драмам предпослать еще обширную прелюдию: „Похищение Золота Рейна“. <…> Ни о каком разделении частей я и думать не могу. Это значило бы наперед разрушить общую концепцию. Весь комплекс драм должен пройти перед глазами в быстрой последовательности. И чтобы сделать это возможным с внешней стороны, я могу допустить только следующие облегчения. Представление „Нибелунгов“ должно иметь место в определенное, установленное для этого время. Оно должно простираться на три следующих друг за другом дня, не считая кануна, вечера постановки вводной для всего цикла оперы»[414].
Лист не мог не поддержать начинание друга. Непобедимый энтузиазм «борца за невозможное» словно встряхнул его и придал новые силы для борьбы за искусство. Раз Вагнер верит в себя и задумывает столь грандиозное произведение, значит, Лист тоже сможет победить все трудности и преодолеть препятствия, стоявшие у него на пути. В лице Вагнера Лист во многом обрел фундамент для прочной веры в собственную правоту. В свою очередь, поддержка Листа продолжала оказывать на Вагнера самое благотворное влияние. Титаны нуждались друг в друге перед лицом многочисленных недоброжелателей.
А их у Листа было ничуть не меньше, чем у Вагнера. С одной стороны, театральное начальство не одобряло реформы, начатые им в Веймаре. Серьезный репертуар был не нужен дирекции — гораздо легче и прибыльнее заполнить афишу незатейливыми комедиями, фарсами и выступлениями «знаменитых» карликов и фокусников. С другой стороны, на Листа ополчились «академические» музыканты, противившиеся новым тенденциям в музыкальном искусстве, которые пропагандировал Лист. Таким образом, его борьба за настоящее искусство разворачивалась на два фронта. И необразованной публике с низкопробными вкусами, и ретроградам от музыки творчество Листа и набиравшее силы под его покровительством новое искусство были абсолютно чужды. «У Листа врагов не меньше, чем сора на морском берегу. В сущности, его считают нужным лишь для того, чтобы он как пианист развлекал их, но с этим он раз и навсегда покончил»[415], — писал Ганс фон Бюлов.
В цитированном выше письме Вагнера от 20 ноября 1851 года есть строки, показывающие, насколько ясно ему со стороны виделось положение Листа в Веймаре: «Сознаюсь, что перемена, которую претерпела моя концепция [„Кольца? нибелунга“], освободила меня от некоторого мучительного затруднения: от необходимости предоставить постановку „Юного Зигфрида“ веймарскому театру. И только теперь, после всех объяснений, с легким сердцем посылаю тебе текст моего произведения — знаю, что ты будешь читать его без всякой тревоги, связанной с мыслью о постановке, особенно на сцене веймарского театра, в его настоящем, фатальном для него положении. Не будем питать на этот счет никаких иллюзий! Личными усилиями ты сделал для меня в Веймаре нечто, достойное изумления. И это нечто имело великие для меня последствия: если бы не ты, мое имя совершенно заглохло бы в обществе. Но ты с такою энергией, с таким успехом, средствами, одному тебе только и доступными, направил путем печати внимание всех друзей искусства на меня, что именно благодаря твоим стараниям, благодаря признанию, завоеванному для меня твоими усилиями, я могу теперь думать об осуществлении собственных планов. Смотрю на всё с полной ясностью мысли и без всяких колебаний должен назвать одного тебя творцом моего теперешнего, не бедного перспективами на будущее, положения. Но спрашиваю тебя: чего еще ты можешь ждать от Веймара? С откровенностью, которая внушает мне самому грусть, должен сказать, что все твои хлопоты о Веймаре я считаю бесплодными. Ты уже на опыте мог убедиться, что стоило только на короткое время оставить этот город, чтобы пошлость расцвела пышным цветом на той самой почве, в которую ты с таким трудом бросил семена благороднейшего вкуса. Если ты вернешься туда и вновь наполовину обработаешь эту почву, ты создашь атмосферу только для нового чертополоха, для нового, еще более дерзостного его роста. Смотрю на тебя с истинным огорчением. Вокруг тебя вижу только тупость, ограниченность, пошлость, пустое невежество разных придворных господ, ревнующих гения к каждому его успеху, имеющих печальное право завидовать ему. Но я слишком долго распространяюсь об этом отвратительном обстоятельстве! Лично меня оно уже нисколько не волнует — я с ним покончил навсегда. Оно огорчает меня из-за тебя. Хотелось бы, чтобы, при твоих настроениях, ты не слишком поздно присоединился к моему взгляду на эти вещи»[416].
Фактически единственное, что удерживало Листа в Веймаре, — оказываемое ему по мере сил и средств покровительство герцогской фамилии. Но единомышленники у него, конечно же, были. 29 февраля 1852 года в берлинском музыкальном журнале «Эхо» (Echo) появилась рецензия на книгу Листа «Шопен» молодого музыкального критика и начинающего композитора Петера Корнелиуса[417]. В начале марта он приехал в Веймар с единственной целью — познакомиться с Листом. Они встретились 20 марта, когда на сцене придворного театра шла премьера оперы Берлиоза «Бенвенуто Челлини» под управлением Листа. Представление должно было состояться 16 февраля, в день рождения великой герцогини, но из-за болезни солиста было перенесено. Кстати, Лист очень высоко ценил эту оперу, называя ее «в музыкальном отношении сестрой „Фиделио“». Популяризация творчества Берлиоза стояла отдельным пунктом в листовской «программе борьбы за искусство».
А в полк борцов за высокие идеалы, в первой шеренге которого стояли Рафф и фон Бюлов, отныне был принят и Петер Корнелиус. Вскоре к ним присоединился еще один убежденный «листианец» — Карл Клиндворт[418].
В следующий театральный сезон Лист задумал поставить в Веймаре «Летучего Голландца». На апрельское представление вагнеровской оперы в Цюрихе Лист поехать не смог, но сообщил другу в письме: «…вести, полученные мною об исполнении „Летучего Голландца“, благоприятны. Будущей зимой ты получишь известия и из Веймара о нашей постановке, так как мы не можем дальше оттягивать ее, и надеюсь, что и исполнители проявят себя хорошо (ибо само произведение стоит вне всякой критики)… Как раз сегодня я высказал принцип, что нашей первой и главной задачей в Веймаре является постановка опер Вагнера selon le bon plaisir de l’auteur[419]… В конце этого месяца здесь ожидается прибытие русской царицы, и на 31-е вновь намечен „Тангейзер“»[420].
Представление «Тангейзера» 31 мая действительно состоялось. А еще до него, 11 мая, Лист дирижировал вагнеровской «Фауст-увертюрой», написанной в 1840 году (в 1855-м была переработана автором по совету Листа).
Сам же Лист, вновь и вновь мысленно обращавшийся к образам своей родины, написал в то время «Фантазию на венгерские народные темы» (Fantasie ?ber ungarische Volksmelodien), впервые исполненную через год, 1 июня 1853-го, Гансом фон Бюловом и ему же посвященную.
Но в Веймаре Лист занимался не только проблемами музыкального искусства. Он общался со многими выдающимися современниками, приезжавшими в гостеприимный Альтенбург. 19 мая 1852 года Листа посетил Ханс Кристиан Андерсен (1805–1875). Двенадцатью годами ранее датский писатель слушал игру Листа в Гамбурге, а теперь приехал навестить его. «Сегодня я встречался с Листом, — писал Андерсен. — Живет за пределами города вместе с княгиней Витгенштейн; их отношения — это громкий скандал для такого маленького городка, как Веймар, но у нее, однако, при этом хорошая репутация. Они хотели бы пожениться, но так как оба являются католиками[421] и она ушла от мужа, Папа не позволит им этого»[422].
Через несколько дней Лист и Каролина навестили великого сказочника в отеле. Затем он снова был принят в Альтенбурге. Во время своего второго визита Андерсен читал хозяевам свою сказку «Соловей»; известно, что она являлась одной из любимых сказок Листа.
Андерсен провел в Веймаре три недели, был принят во дворце великого герцога и беседовал с Марией Павловной, а также присутствовал на представлениях «Тангейзера» и «Лоэнгрина». Впоследствии он даже утверждал, что эти спектакли были даны исключительно для него! По дороге в Копенгаген Андерсен написал письмо:
«Дорогой, восхитительный доктор Лист! Примите мою глубочайшую благодарность за доброту и гостеприимство, которые Вы оказали мне во время прекрасных дней в Веймаре. Вот мои Песни (Liede). Выберите те, которые нравятся Вам больше всего. Я был бы рад свершенному над ними музыкальному крещению (T?nen-Taufe). Наиболее преданный Вам
X. К. Андерсен»[423].
Но Лист в своем творчестве так никогда и не обратился к стихам Андерсена, скорее всего потому, что они были написаны на датском языке, которого он не знал.
Тринадцатого июня в веймарском придворном театре была поставлена трагедия Байрона «Манфред». Музыку к ней — увертюру и 15 музыкальных номеров — написал Шуман еще в 1848 году. Однако первое исполнение увертюры прошло лишь 14 марта 1852 года в лейпцигском Гевандхаузе[424]. Эстафету подхватил Веймар. Постановка успеха не имела, что дало Кларе Шуман повод для необоснованных нападок на Листа, якобы неправильно интерпретировавшего произведение ее мужа. Несмотря на горечь обиды, Лист никак не отреагировал на несправедливую критику, а лишь с удвоенной силой изучал и популяризировал творчество Шумана — пример такого бескорыстия, пожалуй, единственный в своем роде.
22–23 июня в Балленштедте (Ballenstedt) Лист руководил музыкальным фестивалем, программа которого была составлена им из произведений Бетховена (включая Девятую симфонию), Раффа (увертюра к «Королю Альфреду»), Глюка (второй акт «Орфея и Эвридики»), Берлиоза («Гарольд в Италии») и Вагнера (увертюра к «Тангейзеру» и «Братская трапеза апостолов»). Как видим, в подборе репертуара он был верен себе.
По возвращении в Веймар Лист полностью отдался подготовке к премьере сочинения, написанного им еще в 1848 году, но до сих пор не исполнявшегося. «Месса для четырехголосного мужского хора и органа» (Messe f?r vierstimmigen M?nnerchor und Orgel), называемая еще «Сексардской мессой», — одна из первых ступеней восхождения Листа к высотам духовной музыки. В 1869 году он переработал ее, но уже первая редакция наглядно показывает, что духовная музыка для него была одной из важнейших сфер музыкального искусства. В становлении Листа-композитора «Сексардская месса» — настоящий трамплин перед «Эстергомской мессой» и шедеврами зрелого периода его творчества.
Лист представил свое детище публике 15 августа. Веймарцы не оценили масштаб события. Современники вообще редко ценят живых классиков…
Вся осень была занята у Листа подготовкой новых спектаклей. 12 сентября он дирижировал оперой Джузеппе Верди «Эрнани», «расширяя границы» музыкального искусства в отдельно взятом Веймаре. 24 октября с успехом прошло представление «Фауста» Людвига Шпора, в какой-то мере премьерное, поскольку это была только что законченная вторая редакция оперы, написанной еще в 1816 году.
От музыки отвлек приезд в Веймар 12 сентября князя Николая Петровича Витгенштейна. На следующий день он переступил порог Альтенбурга. Князь привез с собой перечень непреложных условий развода:
«1. В том случае, если Каролина снова выйдет замуж,
a) одна седьмая ее состояния переходит в распоряжение Николая;
b) шесть седьмых ее состояния отходит княжне Марии;
c) Каролина получает 200 000 рублей наличными.
2. Великая герцогиня Мария Павловна берет на себя опеку над княжной Марией, чтобы была уверенность в том, что мораль молодой девушки надежно защищена»[425].
Таким образом, Каролина, владевшая пятнадцатью богатыми имениями, фактически лишалась состояния. Но самым тяжелым из пунктов этого предварительного ультиматума был, разумеется, последний, предполагавший фактическое отлучение ее от дочери. Не задерживаясь в Веймаре, Николай Петрович уехал, оставив Каролину в полной растерянности. Мучительная неизвестность продолжалась.
Словно в компенсацию за перенесенные волнения в середине ноября Листа ждал приятный сюрприз — к нему приехал старый друг и единомышленник Гектор Берлиоз. Его приезд положил начало заведенной Листом традиции устраивать «музыкальные недели». Первой стала «неделя Берлиоза» 14–21 ноября: в присутствии автора под управлением Листа была дважды дана опера «Бенвенуто Челлини», исполнены симфония «Ромео и Юлия» и кантата «Осуждение Фауста». Берлиоз был глубоко тронут, тем более что публика устроила ему овацию. «Я столь многим обязан тебе!» — сказал он Листу, прощаясь.
Последним спектаклем, которым Лист дирижировал в 1852 году, стал «Лоэнгрин», данный 27 ноября. Лист уже знал, кому будет посвящена следующая «музыкальная неделя» в Веймаре.
Пожалуй, лишь одно обстоятельство омрачило Листу предрождественские дни: пост концертмейстера веймарского придворного театра покинул Йозеф Иоахим, получивший аналогичную должность в Ганновере, поскольку его творческая натура больше тяготела к «шумановско-брамсовскому» лагерю, нежели к «листовско-вагнеровскому». К самому Листу подобные «разграничения» никакого отношения не имели: он по-прежнему готов был одинаково бороться за творчество Шумана и Вагнера, Брамса и Верди, Шопена и Берлиоза, потому что все они создавали истинное искусство.
Лист и Иоахим расстались друзьями. На прощальном концерте они исполнили бетховенскую «Крейцерову сонату». Гений Бетховена всегда примирял любые разногласия в музыкальном мире.
Начало 1853 года для Листа было ознаменовано окончанием одной из вершин мировой фортепьянной музыки — сонаты h-moll, посвященной Роберту Шуману (еще одно доказательство, что Лист был выше личных обид). Вот только первого исполнения ее Листу пришлось ждать целых четыре года.
Вагнер высказал свое мнение о произведении в письме автору в 1855 году: «Клиндворт сыграл мне твою большую сонату! Мы провели в уединении, вдвоем, весь день; он обедал у меня (Вагнер тогда находился в Лондоне. — М. З.), а потом я заставил его играть. Дорогой Франц! Теперь ты был у меня. Соната безгранично прекрасна: величественна, достойна любви, глубока и благородно-возвышенна — как ты сам. Я глубоко тронут ею и разом забыл все лондонские беды. Больше сейчас, сразу же после прослушивания, я тебе ничего не скажу, но то, что я тебе говорю, меня переполняет так, как только это вообще возможно. Повторяю, ты был у меня, — о, если б это было на самом деле, жизнь показалась бы нам прекрасной!»[426]
Шестнадцатого февраля Лист, как и обещал Вагнеру, осуществил постановку «Летучего Голландца». Опера имела успех и была повторена 19-го числа. А еще через неделю в веймарском придворном театре прошла «музыкальная неделя Вагнера»: 27 февраля был дан «Тангейзер», 2 марта в третий раз исполнен «Летучий Голландец», а 5-го — «Лоэнгрин». Вагнер был растроган «подвигом Листа во имя вагнеровского дела». 13 апреля он писал другу: «…Всё хорошо! Всё прекрасно! Теперь мы страдаем, приходим в отчаянье, сходим с ума, лишенные веры в тот мир. Но я эту веру имею. Я показал сейчас этот будущий мир. Если он и выше меня, то всё-таки не выше того, что я могу ощущать, мыслить, воспринимать и постигать. Верю в людей и — больше этого мне ничего не нужно! И вот я хочу спросить тебя: кто же сердцем, всею глубиной его, ближе подошел к моей вере, чем ты? Ты тоже веришь, ты тоже любишь и умеешь хранить любовь с такою силой, с какою никто никогда не выражал и не проявлял ее на земле. Каждое мгновение твоей жизни проникнуто верой. Знаю глубоко, интимно, в чем именно она заключается. Так неужели же, повторяю, я мог бы осмеять ту форму чувств, из которой вылилось такое чудо? Надо быть художником в гораздо меньшей степени, чем это естественно для меня, чтобы смотреть на тебя без симпатии. Будем же бороться! Будем биться с настоящим мужеством! Тогда наши личные мученья рассеются. То, что я вынужден теперь стоять так далеко от поля сражения, и создает атмосферу для моих постоянных жалоб. Какая прекрасная мысль окрыляет меня: Увижу тебя опять! Этим сказано всё, всё, что может принести мне радость»[427].
Лист собирался навестить друга, как только позволят дела. Пока же Ганс фон Бюлов отправился на гастроли в Вену, а оттуда в Пешт. Тоску по родине Лист изливал в частых письмах любимому ученику, рекомендовал его графу Лео Фештетичу, интенданту Пештского национального театра, и Ференцу Эркелю и советовал: «Часто посещайте цыган и передайте мой сердечный привет их главе, скрипачу Бихари, который, как мне кажется, один из сыновей великого Бихари»[428]. Он с удовлетворением узнал, что венгерские концерты Бюлова прошли с огромным успехом.
Сам же Лист в Веймаре присутствовал на торжествах, посвященных 25-летию правления великого герцога Карла Фридриха, проходивших 15 июня. Тогда никто не предполагал, что жить великому герцогу осталось меньше месяца…
Пользуясь приездом на веймарские торжества короля Саксонии Фридриха Августа II[429], Лист, как никто другой понимавший, каково быть оторванным от родины, обратился к великому герцогу с просьбой походатайствовать о помиловании Вагнера и разрешении ему вернуться в Германию. Однако его усилия не принесли результатов.
Пришлось Листу ехать в Цюрих, чтобы увидеться с другом. 2 июля Вагнер наконец смог лично поблагодарить его. Эта встреча была одним из самых радостных событий во взаимоотношениях двух композиторов. Лист писал Каролине: «Меня он любит от всей души и беспрестанно повторяет: „Видишь, чем я тебе обязан!“». Вагнер впоследствии вспоминал: «Теперь я впервые испытал удовольствие ближе познакомиться с композиторским талантом моего друга. Рядом со многими прогремевшими его вещами для фортепьяно мы с большим рвением проштудировали и некоторые из его только что оконченных симфонических творений и прежде всего его симфонию „Фауст“ (речь идет об отдельных ее фрагментах. — М. З.)… Я сильно и искренне радовался всему, что узнал о Листе, и радость эта действовала благотворным образом на меня самого. После долгого перерыва я носился с мыслью снова приняться за музыкальное творчество. Что могло быть для меня важнее и знаменательнее этого давно ожидаемого общения с другом, всецело охваченным творческой деятельностью и в то же время посвятившим себя изучению моих собственных работ, пропаганде их в обществе! Эти радостные дни с неизбежным наплывом друзей и знакомых были прерваны прогулкой по Фирвальдштетскому озеру в сопровождении одного лишь Гервега, во время которой Листу пришла в голову красивая мысль выпить со мной и Гервегом на брудершафт из трех источников Грютли»[430][431]. Этим символичным поступком Вагнер, Лист и Гервег скрепили свой дружеский союз.
Именно тогда у Листа зародился замысел грандиозной оратории «Христос». Он хотел, чтобы текст для нее написал именно Гервег. Но идею пришлось надолго оставить…
Восьмидневное пребывание Листа в Цюрихе принесло творческие плоды — Вагнер с новыми силами взялся за композицию «Золота Рейна», которую детально обсудил с Листом. 10 июля, прощаясь, они договорились встретиться в начале октября, на этот раз в Базеле. Вагнер признавался, что после отъезда друга «чувствовал себя покинутым».
Листу же необходимо было срочно вернуться в Веймар: 8 июля скончался великий герцог Карл Фридрих, престол перешел к его сыну Карлу Александру. В честь нового государя Лист написал «Приветственный марш» (Huldigungsmarsch). Кроме того, 11 августа композитор завершил седьмую симфоническую поэму «Праздничные звуки» (Festkl?nge).
Опасаться за свое место придворного капельмейстера ему не приходилось — новый правитель Веймара всю жизнь покровительствовал наукам и искусствам, был щедрым меценатом. У Листа даже появилась надежда, что теперь он сможет сделать гораздо больше. Воодушевленный, он стал готовиться к музыкальному фестивалю, намеченному на начало октября в Карлсруэ.
Незадолго до отъезда Листа в Веймар прибыла удивительная молодая женщина — Агнес Стрит-Клиндворт (Street-Klindworth; 1825–1906), желающая брать у него уроки игры на фортепьяно. Незаконнорожденная дочь немецкого дипломата Иоганна Георга Генриха Клиндворта[432] и датской актрисы Бригитты Бартельс (Bartels; 1786–1864) отличалась красотой, умом и выдающимися музыкальными способностями. Очень скоро поползли слухи, что учитель и ученица полюбили друг друга…
Агнес, пожалуй, наиболее таинственная личность в окружении Листа. Достоверных сведений (а не сплетен) о ней довольно мало, чему способствовал род занятий ее отца. Поговаривали, что и сама она тайный политический агент. К моменту приезда в Веймар она была замужем за англичанином Эрнестом Денис-Стритом (Denis-Street; 1825 —?), о котором практически ничего не известно. В 1856 году Агнес получила развод (а не овдовела, как сообщается в ряде работ; свидетельство тому — секретный доклад полиции Дюссельдорфа от 24 октября 1856 года прусскому министру внутренних дел[433]).
В конце 1853 года Агнес покинула Веймар, а 21 января 1854-го родила сына Эрнста Августа Георга, известного как Георг Стрит (1854–1908). Осенью 1854 года Агнес с ребенком возвратилась в Веймар, и общение с Листом возобновилось. Однако меньше чем через год она опять уехала. Именно тогда началась ее переписка с Листом, длившаяся до 1861 года[434].
Вскоре Агнес родила второго сына Карла (1855–1922). В 1856 году она познакомилась с Фердинандом Лассалем[435], любовная связь с которым, скорее всего, и послужила причиной ее развода. 19 декабря у них родилась дочь Фернанда, не прожившая и года.
С Листом Агнес вновь встретилась в Ахене летом 1857-го. В течение всего года Лист был уверен, что у нее с Лассалем дело движется к свадьбе. В его письмах проскальзывает наивная надежда, что если Агнес официально выйдет замуж, они смогут встречаться, не опасаясь пересудов; это само по себе свидетельствует, что он не считал их отношения предосудительными. Но свадьба так и не состоялась…
В последних письмах они обсуждали возможный приезд Листа в Брюссель летом 1861 года; он рассказывал (весьма странно для любовной переписки!), как идет процесс аннулирования брака Каролины Витгенштейн[436]. В 1861 году они перестали обмениваться письмами.
Второго августа 1862 года у Агнес Стрит родился третий сын Генри (1862 —?). В 1868-м она поселилась в Париже, где провела оставшиеся годы, пережив Листа на два десятка лет.
Такова в общих чертах канва личной (творческой мы намеренно не касаемся) жизни Агнес Стрит-Клиндворт.
Показательно, что в трехтомной биографии Листа, принадлежащей перу Лины Раман, об Агнес вообще не упоминается. Начало пересудам положила сама Агнес, доверив свою переписку с Листом старшему сыну. Георг не отличался добропорядочным образом жизни, имел пристрастие к алкоголю и начал по кафе и барам Парижа рассказывать, что он — незаконнорожденный сын Листа. Документы, в частности церковные записи о крещении самого Георга и остальных детей Агнес, полностью опровергают подобные инсинуации.
В 1894 году Агнес, наконец, дала разрешение на публикацию переписки. Издателем выступила лично знавшая Листа Мария Липсиус (Lipsius; 1837–1927), издававшаяся под псевдонимом Ла Мара (La Mara). По просьбе Агнес ее имя осталось в тайне — книга получила название «Письма Франца Листа к подруге» (Franz Liszt’s Briefe an eine Freundin)[437]. В указанное издание вошли 133 из двухсот писем.
Но в 1911 году издательница больше не чувствовала себя связанной обязательствами по отношению к Агнес, к тому времени умершей, тем более что ее имя уже было раскрыто биографом Вагнера Карлом Фридрихом Глазенаппом[438]. Опубликованная ею в Лейпциге книга «Лист и женщины» (Liszt und die Frauen) стала основным источником версии о любовной связи между Агнес и Листом.
Приведем для примера лишь одну выдержку из письма Листа из Берлина от 8 января 1856 года: «Здесь даже снег и лед горят для меня воспоминаниями, и с тех пор, как я больше не вижу тебя… меня спешно гонит в мою сторону горящий в груди огонь! Мои мысли и мое желание постоянно распирают и переполняют меня. Агнес, я не могу писать тебе, мне не удается жить так, как бы я того желал!»[439]
Казалось бы, какие после этого могут быть сомнения? Что это, как не пылкое любовное послание? Но мы и не отрицаем, что Лист был увлечен своей ученицей. Однако насколько далеко зашли их отношения? Как могло случиться, что в самый разгар любовной драмы Листа и Каролины Витгенштейн в его жизни появляется другая? Листа ни в коем случае нельзя считать донжуаном. Скорее всего, его чувства к Агнес носили платонический характер. Более того, о романе с Агнес не упоминает не только Лина Раман, но и Каролина Витгенштейн. То, что происходило между ней и Листом, осталось навсегда сокрыто в их сердцах. Каролина знала, что Лист никогда не откажется от нее: они зашли слишком далеко и слишком много страдали. Каролина чутким женским сердцем поняла, что увлечение Агнес было лишь временным наваждением.
Вся эта история поразительно напоминает другую любовную коллизию, произошедшую более двадцати лет спустя с Вагнером. В конце 1870-х годов он тоже был уличен в «измене» с красавицей-француженкой Юдит Готье (Gautier; 1845–1917), талантливой писательницей, знатоком Востока, дочерью знаменитого Теофиля Готье, и тоже на основании переписки, в которой были, например, строки: «Драгоценная душа моя! Очаровательная подруга! Всё еще люблю Вас! Вы всегда оставались для меня единственным лучом любви в течение тех дней, которые были так радостны для одних и так печальны для меня. Но Вы были для меня полны очищающего, умиротворяющего и пьянящего огня! О, как хотел бы я еще вновь и вновь целовать Вас. Дорогая, очаровательная… Каков глупец! Прежде всего, я сам — ведь я хотел последовать Вашему совету и забыть Вас!»[440]
Однако в том, что чувства Вагнера к Юдит были платоническими, не сомневаются даже сторонники «теории последней вагнеровской весны». А вот самой Юдит Готье льстило внимание немецкого гения, и она сделала всё возможное, чтобы об этом стало широко известно. Можно ли считать объективной подобную оценку самолюбивой творческой личности? Или она выдавала желаемое за действительное? Хотела видеть себя возлюбленной, будучи на самом деле просто приятной собеседницей? И не аналогичное ли желание явиться перед потомками в лучах славы возлюбленной гения двигало Агнес Стрит-Клиндворт, когда она соглашалась предать гласности их с Листом переписку?
Процитированные выше отрывки из писем есть не что иное, как пример высокопарной и экзальтированной эпистолярной стилистики XIX века. Общаться с другом как с возлюбленной было тогда в порядке вещей.
Кем же была для Вагнера Юдит Готье? Поклонницей таланта, приятной, умной и образованной собеседницей, наконец, красивой женщиной, которой мужчина, наделенный художественным воображением, мог просто любоваться.
Кем была Агнес Стрит-Клиндворт для Листа? Ее красота, ум и талант были неоспоримы. Она не могла оставить равнодушной творческую натуру Листа. Она была ему необходима как собеседник и как музыкант. Но при этом Лист продолжал вести размеренную жизнь, что было бы невозможно, будь он в действительности сжигаем любовным огнем.
Нам пришлось несколько отвлечься, чтобы больше уже не останавливаться на вопросе взаимоотношений Листа и Агнес Стрит-Клиндворт в ходе дальнейшего повествования.
С 3 по 5 октября 1853 года в Карлсруэ проходил музыкальный фестиваль, в подготовке которого Лист принимал непосредственное участие. В составленной им программе значились увертюра к «Тангейзеру», исполненная дважды — в день открытия и закрытия фестиваля; «Венгерский концерт» для скрипки Иоахима, исполненный автором; увертюра «Манфред» Шумана, Девятая симфония Бетховена, арии из опер «Милосердие Тита» Моцарта и «Пророк» Мейербера, вторая часть «Ромео и Юлии» Берлиоза, фрагменты «Лоэнгрина», а также «Фантазия на мотивы из „Афинских развалин“ Бетховена» (Fantasie ?ber Motive aus Beethovens «Ruinen von Athen») для фортепьяно с оркестром самого Листа[441] (солировал Ганс фон Бюлов).
Если в веймарском придворном театре Лист находился в подчинении у дирекции и вынужден был терпеть внесение в репертуар постановок откровенно низкого качества, то при организации музыкальных фестивалей выбор программы зависел исключительно от него, и здесь он был непреклонен.
Из Карлсруэ Лист уехал в Базель в сопровождении фон Бюлова, Иоахима и Корнелиуса. 6 октября друзья встретились с Вагнером, а на следующий день к их обществу присоединилась Каролина Витгенштейн с дочерью. Назавтра все вместе отправились в Страсбург, откуда Лист, Каролина и княжна Мария в сопровождении Вагнера выехали в Париж.
Десятого октября в квартире на улице Казимира Перье состоялись две памятные встречи: Каролина лично познакомилась с Мари д’Агу, а Вагнер — с детьми Листа. «Впервые я видел своего друга, окруженного детьми, подростками-девушками и мальчиком-сыном, переходившим в возраст юноши. <…> Младший сын Даниель своей живостью и сходством с отцом внушил мне глубокую симпатию. Дочери его произвели на меня впечатление чрезвычайно застенчивых девушек»[442]. Эти скупые строки описывают первую встречу Вагнера с будущей женой. Конечно, тогда он даже предположить не мог ничего подобного.
Дочери Листа получали домашнее образование, а Даниель, осенью 1850 года зачисленный в Лицей Бонапарта[443], подавал большие надежды — считался одним из лучших учеников и в 1852 году получил первую премию по истории.
Восемнадцатого октября Лист с Каролиной и Марией отправился в обратный путь, а Вагнер задержался в Париже. В день рождения своего друга, 22 октября, он в гостеприимном доме Эраров в присутствии детей Листа исполнял отрывки из своих произведений. В тот день Козима впервые услышала его музыку…
А 30-го числа уже Лист в Веймаре дирижировал «Летучим Голландцем». Расстояния и разлуки ничего не значили для двух музыкальных гениев. В начале 1854 года Лист написал статью «„Летучий Голландец“ Рихарда Вагнера» («Der Fliegenden Holl?nder» von Richard Wagner), о которой Вагнер в письме от 7 февраля отозвался более чем красноречиво: «…B самом деле, кто сумел постичь меня? Ты — и никто кроме тебя! Кто сейчас может понять тебя? Я — и никто кроме меня! В этом ты должен быть уверен! Ты первый и последний дал мне полную радость, радостное сознание, что я понят вполне и совершенно. Я как бы весь растаял в тебе! Ты чувствуешь меня до последнего фибра, до нежнейшей пульсации сердца. И вот я вижу, что такое понимание, как твое, — единственно действительное понимание, существующее на белом свете, и что по сравнению с ним всё остальное — только недоразумение, только безотрадное заблуждение! Но могу ли я желать чего-нибудь, раз мне дано судьбою пережить это? И можешь ли ты желать от меня чего-нибудь другого, если нам пришлось испытать нечто подобное?»[444]
Лист был растроган. Он всё сильнее чувствовал некую ответственность за судьбу Вагнера, а тот постоянно напоминал ему об этом, как, например, в письме от 15 января 1854 года: «Дорогой мой, не сердись на меня! Имею право на тебя как на человека, меня создавшего! Ты сотворил меня таким, каким я чувствую себя сейчас. Живу жизнью, которую даешь мне ты — это не преувеличение! Так подумай же о своем создании! Вопию к тебе о том, что составляет твою прямую обязанность. Речь идет, в конце концов, только о деньгах — ведь достать их всё-таки возможно. Ни слова о любви! Но искусство?!»[445]
Об искусстве Лист не забывал ни на мгновение. Благодаря его стараниям театральный сезон 1853/54 года оказался на редкость интересным и разнообразным. 7 января Лист дирижировал «Дон Жуаном» Моцарта; 27 января — недавно написанной ораторией Берлиоза «Детство Христа». 16 февраля в качестве вступления и заключения к глюковской опере «Орфей и Эвридика» была впервые исполнена четвертая симфоническая поэма самого Листа «Орфей» (Orpheus). (Ее окончательный вариант завершен 10 ноября 1854 года.) 19 февраля в веймарском придворном театре под управлением Листа прошел «Фиделио» Бетховена, а 23 февраля композитор впервые представил на суд публики свои «Прелюды». Статьи «„Орфей“ Глюка» («Orpheus» von Gluck) и «„Фиделио“ Бетховена» (Beethovens «Fidelio») [446]также не заставили себя ждать.
В разгар напряженной творческой деятельности Лист узнал, что 27 февраля скончался аббат Ламенне. Но он не мог себе позволить долго предаваться печали — уже 19 марта вновь встал за дирижерский пульт. В этот день в театре шла веберовская «Эврианта», после исполнения которой Лист написал статью «„Эврианта“ Вебера» (Webers «Euryanthe»)[447], ставшую манифестом его отношения к театру:
«Сочинением „Эврианты“ Вебер впервые ступил на новую почву. Здесь он осознал себя предвестником новой эры, здесь у него было предчувствие будущих „Тангейзера“ и „Лоэнгрина“.<…> Вагнер оказал драматическому искусству неоценимую услугу этим красноречивым протестом (против несоответствия качества музыки и поэтического текста либретто. — М. З.), гласящим „что гений музыканта может сочетаться лишь с равным ему поэтическим гением и что самая лучшая музыка будет иметь более или менее неудачную судьбу, если довериться посредственной поэзии“. <…> От Веймара требуют лишь искусства, больше искусства, и искусства более свободного от фальшивого блеска, чем его можно найти в Париже, Берлине или Вене. Дабы утвердить на нашей сцене такое искусство, сделать его пребывание на ней естественным явлением, необходимо поддерживать следующие три основных принципа: 1) Более разумный и истинный пиетет в отношении шедевров прежних эпох, нежели это нам показывает опыт… 2) Деятельная, постоянная и добросовестная забота о разучивании произведений, одобренных современностью… 3) Постоянное, неограниченное гостеприимство в отношении неизданных произведений, которые имеют будущность… независимо от того, знаменит автор или неизвестен»[448].
При этом музыка самого Листа в это время подвергалась всё более яростным нападкам критики, не принимавшей новую музыкальную эстетику, за которую он отчаянно боролся. 21 марта он с горечью писал Анталу Аугусу: «Многоуважаемый друг, град газетных статей обрушивается на мои произведения не только в Вене, но и во всей Германий, более того, даже, в несколько меньшей мере, в России и Америке. Повсюду, в Лейпциге, Берлине, в долине Рейна, в Петербурге и Нью-Йорке „ученая критика“, как и в Вене, заявляет, что одобрять мои произведения или хотя бы только слушать их без предварительного осуждения — грех перед искусством, оскорбление его»[449].
Но Листа уже нельзя было заставить свернуть с избранного пути, в истинности которого он не сомневался, несмотря ни на какую критику. На следующий день после написания этого письма Лист дирижировал «Эгмонтом», что вдохновило его на новую статью — «О музыке Бетховена к „Эгмонту“» (?ber Beethovens Musik zu «Egmont»), где он разбирал волновавшие его проблемы программной музыки.
Восьмого апреля, в день рождения великой герцогини Софии, Лист дирижировал «Лоэнгрином», а 16-го состоялась премьера его собственной симфонической поэмы «Мазепа». Кстати, ровно через три дня после этой премьеры Лист управлял оркестром, исполнившим окончательную версию его «Тассо»; в программке впервые фигурировал термин «симфоническая поэма».
В последний день апреля под управлением Листа прошла опера Мейербера «Роберт-дьявол», о которой он по горячим следам написал статью «„Роберт-дьявол“ Скриба и Мейербера» (Scribe und Meyerbeers «Robert der Teufel»). Вслед за ней появилась еще одна — «О музыке Мендельсона к „Сну в летнюю ночь“» (?ber Mendelssohns Musik zum «Sommemachtstraum»).
До летних «каникул» он еще успел провести два спектакля: 5 июня «Лючию ди Ламмермур» Доницетти и 24 июня «Альфонса и Эстреллу» Шуберта. Это было первое исполнение шубертовской оперы, написанной еще в 1822 году. Правда, для веймарского придворного театра Лист сделал сокращенную редакцию. Постановка была осуществлена в полном соответствии с «более разумным и истинным пиететом в отношении шедевров прежних эпох» и «постоянным, неограниченным гостеприимством в отношении неизданных произведений, которые имеют будущность». В пропаганде творчества Шуберта Лист не ограничился постановкой спектакля, а уже по традиции вскоре написал статью «„Альфонсо и Эстрелла“ Шуберта» (Schuberts «Alfonso und Estrella»).
В мае Веймар посетил Антон Рубинштейн, знакомый с Листом с 1846 года. Он пробыл у Листа до начала июля, присутствовал на его уроках, принимал участие в его домашних концертах. Лист писал Гансу фон Бюлову: «Вы знаете Рубинштейна?.. Он уже неделю гостит у меня в Альтенбурге, и, хотя постоянно говорит о своем предубеждении против новой музыки, я уважаю как его талант, так и его характер. Ему 25 лет, и у него прирожденный талант пианиста (но в последние годы он им пренебрегает). Было бы неправильно мерить его общей меркой»[450].
Рубинштейн привез партитуру своей новой оперы «Сибирские охотники», и Лист обещал приложить все силы, чтобы поставить ее в Веймаре еще до конца года.
Восьмого июля Лист и Рубинштейн приехали в Роттердам, чтобы принять участие в тамошнем музыкальном фестивале, проходившем с 13-го по 15-е число. Оттуда они отправились в Брюссель — там Лист встретился с дочерьми, путешествовавшими в сопровождении мадам Патерси и Гаэтано Беллони. Девочки, раньше никогда не отдыхавшие вместе с отцом, провели незабываемое время, разговаривая с ним обо всём на свете и гуляя по зоопарку «среди львов, тигров, стервятников и страусов»[451]. Они совершили совместную поездку в Антверпен. Но совсем скоро вновь пришлось расставаться…
В последнюю неделю июля Лист возвратился в Веймар и сразу занялся подготовкой к постановке «Сибирских охотников», заказав перевод русского либретто.
Этим же летом Листом была закончена девятая симфоническая поэма «Венгрия» (Hungaria) — ответ на патриотическую оду «Ференцу Листу» Михая Вёрёшмарти[452], сочиненную вскоре после триумфальных гастролей музыканта на родине в 1840 году и содержавшую строки:
Музыкант всемирно знаменитый,
Верен ты стране своей родной.
Разве могут быть тобой забыты
Все страданья родины больной?
Ты ответь нам, о, сердец властитель,
Утешитель их и возмутитель!
…………………………………
Ты, который миром звуков правишь,
Если хочешь вспомнить о былом,
Так играй, чтобы вихрь, летящий с клавиш,
Грянул, как борьбы великий гром,
И в разливе яростного гнева
Торжества послышались напевы.
Так сыграй, чтоб от призывных звуков
Пробудились в глубине земли
Доблестные предки и во внуков
Души их бессмертные вошли,
Одарив отчизну благодатью
И предав изменников проклятью.
Если ж мрак лихих времен настанет —
Траур ты над струнами развей;
Флейтой ветра пусть напев их станет
Средь осенних плачущих ветвей,
Чтоб ее рыдания звучали,
Нам напомнив старые печали.
…………………………………
Ты услышишь в странах отдаленных,
Как отчизна станет эту песнь
Повторять устами миллионов,
И тогда душой ты будешь здесь,
Вместе скажем: «Славить небо надо:
Есть еще душа в сынах Арпада!»[453]
Когда писалась ода, всё было еще впереди — и патриотическое воодушевление, и вера в победу, и героические дни 1848–1849 годов, и трагедия поражения… Лист уже «развеял траур над струнами» в симфонической поэме «Эпитафия героям» (H?ro?de fun?bre), окончательную редакцию которой завершил как раз в 1854 году. Настало время воплотить в музыке всё, что составляло для Листа понятие «родина». Работа шла необыкновенно быстро: в течение июня и июля симфоническая поэма «Венгрия» была закончена на одном дыхании, без всяких новых редакций и переделок. Что бы ни говорили недоброжелатели, душой Лист всегда был со своей страной. И Вёрёшмарти понимал это, не упрекая Листа «странами отдаленными», но призывая творить во славу отечества.
А тем временем личные проблемы Листа — вернее, Каролины Витгенштейн — никак не разрешались, а, наоборот, усугублялись. Летом 1854 года княгиня получила вызов в Россию для объяснений по поводу несоблюдения ею условий урегулирования вопросов с принадлежавшей ей недвижимостью, на который ответила отказом… Тогда министр юстиции Российской империи граф Виктор Никитич Панин (1801–1874) инициировал процесс помещения поместий княгини Витгенштейн под государственную опеку. Этот процесс был завершен уже при новом императоре Александре II: 14 июня 1855 года на заседании Государственного совета княгиня Каролина была признана «виновной в самовольном проживании за границей и в ослушании вызову правительства о возвращении в отечество, невзирая на данную подписку»[454], лишена состояния и объявлена изгнанной из пределов Российской империи. В то же время ее дочь Мария отныне должна была получать за счет прибыли от бывших имений матери 75 тысяч рублей в год.
Новый сезон в веймарском придворном театре был открыт 16 сентября 1854 года поставленным стараниями Листа «Эрнани» Верди, а 23 сентября был повторен моцартовский «Дон Жуан», спектакль предыдущего сезона. Должность капельмейстера требовала от Листа всё больше времени и сил. Но и оставить творчество он не мог.
Девятнадцатого октября Лист с той же быстротой и вдохновением, с каким писал «Венгрию», завершил одно из своих самых масштабных сочинений — «Фауст-симфонию в трех характерных картинах (по Гёте)» — Eine Faust-Symphonie in drei Charakterbildern (nach Goethe). Каждая картина является частью симфонического полотна: 1. Фауст. 2. Гретхен. 3. Мефистофель. Позднее, в 1857 году, Лист добавил в качестве эпилога заключительный хор «Всё быстротечное — символ, сравненье» (Alles Verg?ngliche ist nur Gleichnis), прославляющий спасение через вечную женственность.
Если «Венгрия» стала всеобъемлющим символом родины, то в «Фауст-симфонии» Лист создал «философскую эпопею», как он сам называл творение Гёте: контрастные образы мучительных сомнений Фауста, спокойных и чарующих мелодий Гретхен, насмешливой издевки надо всем и вся Мефистофеля — «изнанки» самого Фауста, в дьявольском зеркале пародирующей стремление героя к идеалу, — всё это стороны человеческого бытия, в итоге находящего дорогу к Свету.
Посвятив симфонию Берлиозу, Лист отдавал дань их многолетней дружбе. Но в то же время его «Фауст-симфония» в очередной раз наглядно показала различие их творческих методов. Для Листа имели значение лишь душевные переживания героев, образы «внутреннего человека», он был абсолютно чужд какой бы то ни было театральности. Берлиоз в своем «Осуждении Фауста» (сравнение «Фаустов» напрашивается само собой) стремился показать весь спектр бытовых и природных картин, «наружно обрамляющих» внутренние переживания. Символично, что у Берлиоза Фауст осужден, а у Листа спасен.
Листу и самому были свойственны «фаустовские» сомнения. Достаточно сказать, что, закончив свое произведение, он долгое время не решался представить его публике. Возможно, его пугал масштаб полноценной трехчастной симфонии — его первой симфонии (до этого он писал одночастные симфонические поэмы). В то же время Лист не мог не сознавать, что «Фауст-симфония» — это очередной этап развития новой музыки, против которой консервативная часть музыкальной общественности выступала всё более непримиримо.
В свой день рождения, 22 октября, Лист дирижировал «Лоэнгрином». После спектакля его ждал торжественный вечер в Альтенбурге, куда были приглашены близкие друзья. Как раз в год создания «Фауст-симфонии» Лист познакомился и подружился с поэтом Гофманом фон Фаллерслебеном[455], сочинившим в его честь несколько стихотворений.
Девятое ноября, полувековую годовщину прибытия в Веймар великой герцогини Марии Павловны, придворный театр отметил премьерой русской оперы «Сибирские охотники». Символично, что одновременно с творением Антона Рубинштейна впервые публично прозвучала (в качестве вступления к пьесе Шиллера «Поклонение искусств», с 1804 года традиционно исполняемой в честь Марии Павловны) симфоническая поэма Листа «Праздничные звуки». Русская опера имела у веймарской публики успех и была повторена 22 ноября.

Автограф «Фауст-симфонии»
Ноябрь 1854 года — важная веха в истории новой музыки, проповедуемой Листом. К нему в Веймар начали съезжаться приверженцы новой эстетики. Борьба развернулась нешуточная. В Веймаре в противовес деятельности Листа было организовано музыкальное объединение «Ключевой союз» (Schl?sselverein). В свою очередь, Гофман фон Фаллерслебен подал идею создать союз прогрессивно настроенных музыкантов, воспринятую Листом с восторгом. 17 ноября было опубликовано первое обращение зарождавшегося общества, призывавшее его сторонников собраться 20 ноября в гостинице «Русский двор» (Russischer Hof). В этот день состоялось учредительное собрание, основавшее Новый Веймарский союз (Neu-Weimar-Verein) (в отечественном музыковедении используются названия веймарская, нововеймарская или новонемецкая школа), главой которого был единогласно избран Лист. Основу союза составили музыканты Петер Корнелиус, Иоахим Рафф, Ганс фон Бюлов, музыкальные критики Рихард Поль и Карл Франц Брендель[456], Гофман фон Фаллерслебен и др.
Однако озлобление против Листа уже вышло за рамки искусствоведческих споров. Приведем лишь один весьма характерный пример. В конце 1854 года Лист был втянут… в судебный процесс, инициированный Веймарским земельным правительством (Landesregierung). В протоколах окружного суда говорилось: «По служебному донесению… придворный капельмейстер д-р Лист, который, как совершенно точно установлено, не состоит на здешней службе, не подчиняется какому-либо служебно-административному управлению, а является только придворным капельмейстером, позволил себе в публичном месте, перед одиннадцатью лицами, следующее поношение: „Уголовный суд здесь представляет собой плохое, снискавшее печальную славу ведомство; за какие-то несчастные и жалкие слова он, Лист, был оштрафован этим судом, хотя в других городах подобные слова не вызвали бы никакой реакции; местная власть — или власти — здесь позорны. И вообще здесь в домах царят ограниченность, тупость и филистерство; веймарцы — все ослы“. Если даже считать эти речи претендующими на гениальность, то они по меньшей мере оскорбительны, и мы поэтому должны по справедливости и по долгу предать их гласности. При этом мы позволим себе заметить, что д-р Лист известен нам лишь как европейская знаменитость в области фортепьянной игры; в другом же отношении он совершенно неизвестен, и таким образом мы не можем понять и объяснить, как он дошел до того, что в своих высказываниях стал затрагивать уголовный суд»[457].
За «административное преступление» Лист был приговорен к десяти талерам штрафа, правда, с оговоркой: если подсудимый клятвенно заверит, что не произносил процитированных в протоколе оскорбительных слов, то может быть освобожден от уплаты. Лист, в свою очередь оскорбленный этим судебным процессом, предпочел клятву не давать, а сразу обратиться в Высший апелляционный суд в Йене, который и отменил приговор Веймарского суда, посчитав невозможным неопровержимо доказать произнесение Листом чего-либо подобного.
Да, Веймар не стал «тихим раем», о котором мечтали Лист и Каролина. И дело здесь вовсе не в провинциальности Веймара, которую часто выставляют в качестве основной причины листовских неудач на поприще утверждения идеалов «новой музыки». Лист был обречен на непонимание не только в Веймаре, как был обречен на непонимание его друг Вагнер, например в Дрездене или Париже. Оба слишком опередили свое время. «Тихого рая» для них не могло быть нигде; почва для их эстетики еще не была подготовлена.
Итак, на Листа ополчились определенные круги «интеллектуальной элиты», не принимавшие его творческие принципы; на Каролину — многие представители высшего света, считавшие ее союз с Листом аморальным. Но они не собирались сдаваться — ни в борьбе за свое искусство, ни в борьбе за свою любовь.
Десятого декабря 1854 года Лист в очередной раз дирижировал «Тангейзером». Вагнер уже был захвачен новой идеей. 16 декабря он писал другу: «Но так как за всю мою жизнь я ни разу не вкусил полного счастья от любви, то я хочу этой прекраснейшей из всех грез воздвигнуть памятник — драму, в которой эта жажда любви получит полное удовлетворение: у меня в голове — план „Тристана и Изольды“; произведение совсем простое, но в нем ключом бьет сильнейшая жизнь; и в складках того „черного знамени“, которое разовьется в развязке, я хочу завернуться и умереть»[458].
Но пока Вагнер вновь обратился к своему сочинению пятнадцатилетней давности, которое Лист уже представлял веймарской публике в 1852 году, — «Фауст-увертюре», третьему «Фаусту» в нашей «берлиозовско-листовско-вагнеровской философской эпопее». Именно Лист в свое время выразил желание, чтобы Вагнер расширил и более определенно развил некоторые отдельные темы, едва намеченные в первоначальной партитуре 1840 года. Переработав своего «Фауста», Вагнер вынужден был признать, насколько его друг оказался прав: увертюра стала более значительной, глубокой и логически завершенной. Интересно отметить, что характерное романтическое развитие побочной партии в экспозиции и репризе вагнеровской «Фауст-увертюры» почти «дословно» воспроизведено не только в качестве одной из любовных тем в его «Тристане и Изольде», но и в «Фауст-симфонии» самого Листа.
Однако в начале 1855 года Лист должен был отойти от фаустовских метаний. 27 января он получил письмо от Антала Аугуса — тот передал другу просьбу архиепископа Яноша Сцитовского[459] написать мессу к дню освящения базилики в Эстергоме[460]. В тот же день Лист ответил: «Церковное музыкальное искусство уже с давних пор привлекает и интересует меня. Еще до того, как я имел счастье познакомиться с Вами, я в Риме основательно изучал мастеров XVI века, особенно Палестрину и Орландо ди Лассо. Но, к моему несчастью, мне не очень-то представлялся случай проявить эти свои познания в личном вдохновении, ибо, должен признаться, шансы на написание церковной музыки неблагоприятны, если человек всегда вращается в кругах широкой публики, и авторы едва могут заработать себе на воду. Но всё же несколько лет назад я, по случайности, повинуясь велению сердца, что для меня более важно, чем внешние выгоды, издал [Сексардскую] мессу, написанную для мужского хора в сопровождении органа, затем — Pater Noster и Ave Maria[461]. Может ли для меня открыться случай более благоприятный и торжественный, чем освящение эстергомской базилики, этого древнего собора вечной истины, христианства и нашей отчизны… С благодарным смирением я принимаю предложение Его Высокопреосвященства князя-примаса, которое Вы были любезны мне передать. Итак, я напишу Missa solemnis[462] для хора и оркестра и в августе будущего года сам буду дирижировать ею в Эстергоме: одновременно я исполню и свое обещание играть на органе базилики»[463].
Параллельно с началом работы над «Эстергомской мессой» Лист, полноправный глава Нового Веймарского союза, подготовил и провел вторую «неделю Берлиоза» в Веймаре с 16 по 21 февраля, открыв ее представлением «Бенвенуто Челлини». 17 февраля Лист впервые публично исполнил свой Первый фортепьянный концерт Es-dur солировал автор, а за дирижерским пультом стоял «виновник торжества» Берлиоз. 20 февраля Берлиоз дирижировал «Детством Христа» и «Фантастической симфонией»; при этом Лист сидел среди оркестрантов и исполнял партию большого барабана. По окончании «недели Берлиоза» члены Нового Веймарского союза устроили в его честь парадный ужин и торжественно приняли его в свои ряды.
Однако и среди них уже наметился раскол; методы дальнейшей деятельности общества вызвали жаркие споры. Вскоре союз покинул Рафф, с тех пор находившийся с Листом в довольно напряженных отношениях.
Но Лист по-прежнему не сдавал позиций. Посвятив весь март работе над мессой, с начала апреля он вернулся к дирижерской деятельности. Под его управлением 8 апреля прошла опера Верди «Двое Фоскари», а 9-го — опера Шумана «Геновева». Увы, «Геновеву» ждал провал; Клара Шуман, приглашенная лично Листом, на спектакль демонстративно не приехала…
Чтобы заглушить в душе боль обиды, Лист — возможно, не без влияния вагнеровского «Тангейзера» — отправился в знаменитый тюрингский замок Вартбург, где средневековые рыцари-миннезингеры состязались в искусстве пения. Кстати, инициатором реставрации Вартбурга еще в 1838 году выступил нынешний великий герцог Веймарский Карл Александр, и теперь работы шли полным ходом. Лист любовался сочными красками фресок Морица фон Швинда[464]. Именно тогда у него впервые возникло желание написать произведение, посвященное житию святой Елизаветы, проведшей в Вартбурге шесть лет (1221–1227). Пока еще только желание, но желание страстное.
По возвращении Лист сообщил Вагнеру: «Вчера (1 мая. — М. З.) я, наконец, закончил свою мессу (на деле работа над отдельными ее фрагментами продолжалась до июня, согласно надписи на последней странице автографа партитуры. — М. З.). Не знаю, как она будет звучать, но знаю, что я скорее молился, чем сочинял»[465].
Интересно, что сразу после завершения мессы Листа захватила идея новой симфонии по «Божественной комедии» Данте.
В конце мая Лист отправился на музыкальный фестиваль в Дюссельдорф. На этот раз он выступал не как дирижер, а как пианист, исполнив «Хроматическую фантазию» Баха. Он встречался с Кларой Шуман, встречался с открытым сердцем, как ни в чем не бывало. Лист, по своему обыкновению, не помнил обид…
Первого июня он вернулся в Веймар и уже на следующий день написал Вагнеру: «…Итак, ты читаешь Данте. Хорошее для тебя общество. К этому чтению я смогу услужить тебе некоторыми комментариями. Уже давно в голове моей бродят — в этом году я их напишу — 3 части симфонии „Данте“: Ад, Чистилище и Рай, две первые — только инструментальные, последняя — с хором. Когда осенью я поеду к тебе, то, вероятно, уже смогу привезти симфонию и если ты не сочтешь ее плохой, то разрешишь мне написать на ней твое имя… Всё лето до поездки в Эстергом (в конце августа) я останусь здесь. Из музыкальной работы меня сейчас занимает новая (довольно измененная) партитура хоров, сочиненных к „Прометею“; будущей зимой я хотел бы издать их. Как только буду готов с ними, тотчас же примусь за симфонию к „Божественной комедии“ Данте, план которой я частично уже наметил»[466].
В ответном письме от 7 июня Вагнер писал: «Лучший из смертных, прежде всего позволь выразить удивление перед колоссальною твоей продуктивностью. Итак, ты опять носишься с мыслью о симфонии „Данте“. <…> Не могу не преклониться с чувством изумления перед таким чудом. Когда думаю о твоей деятельности за последние годы, ты представляешься мне настоящим сверхчеловеком. И какое особенное удовлетворение ты должен иметь от своих трудов! <…> Итак, Divina Commedia[467]? Прекрасная, без всякого сомнения, идея, и я уже наперед вкушаю удовольствие от твоей музыки. Но всё же я должен высказать разные мои мысли на этот счет. Что „Ад“ и „Чистилище“ удадутся тебе вполне, не сомневаюсь ни минуты. Но вот „Рай“ возбуждает мои сомнения. И ты сам поддерживаешь их тем, что проектируешь какие-то хоры. <…> С этим Парадизом всегда будут выходить неизбежные затруднения, и если кто подтверждает это с особою силой, так это, к нашему удивлению, сам Данте, певец Рая. Даже его Рай является слабейшей частью „Божественной комедии“. <…> Но то, что оказалось не по силам Данте, — допускаю это, — удастся тебе. Ты хочешь, дорогой друг, звуками выявить свое религиозное настроение. Почти с уверенностью предсказываю тебе успех в этом деле. Музыка и есть настоящее, художественно-идеальное подобие мира, и человек, посвященный в ее тайны, не сделает тут никакой ошибки. Но твой Парадиз, твои хоры — всё же внушают мне дружеское беспокойство»[468].
К советам друга Лист прислушался, и это обязательно нужно иметь в виду, анализируя окончательный вариант «Данте-симфонии».
В конце театрального сезона были даны два спектакля: 4 июня Лист дирижировал «Тангейзером», а 24-го — оперой Николаи[469] «Виндзорские проказницы». В это же время Лист был занят написанием брошюры «Берлиоз и его симфония „Гарольд“» (Berlioz und seine «Harold-Symphonie»), в которой также обобщал свои принципы взаимосвязи музыки и слова.
В столь насыщенное разнообразными творческими задачами лето Лист не забывал и о своей педагогической миссии. Армия его учеников постепенно пополнялась. В июле в Веймар прибыл Карл Таузиг[470], заслуживший прозвище «будущий Лист».
Двадцать шестого июля Лист отправился в Йену, где должна была исполняться его «Сексардская месса». Там он свел знакомство с советником юстиции Карлом Гилле (Gille; 1813–1899) — не только успешным юристом, но и активным музыкальным деятелем (достаточно сказать, что в течение шестидесяти лет он бессменно руководил в Йене проведением традиционных академических концертов)[471]. Впоследствии именно он много лет был генеральным секретарем Всеобщего немецкого музыкального союза и одним из первых хранителей Дома-музея Листа в Веймаре. В лице Гилле Лист нашел надежного друга на всю жизнь[472].
Лето 1855 года принесло Листу и новые семейные заботы. В начале июля в Веймар пришло известие, что мадам Патерси серьезно заболела и больше не сможет заниматься воспитанием Бландины, Козимы и Даниеля. После долгих колебаний было принято решение, что девочек возьмет к себе Франциска фон Бюлов, мать Ганса, переехавшая к тому времени в Берлин, а Даниель останется в Париже заканчивать лицей. Было решено, что все дети перед такими серьезными изменениями в жизни приедут в Веймар погостить у отца. 21 августа они встретились. Радости не было предела. Лист признавался в письме Агнес Стрит-Клиндворт: «…Дочери занимают две трети моих дней. Это милые, умные, живые, более того, пожалуй, даже слишком ко всему присматривающиеся барышни. Они одинаково пошли и в папу, и в маму… Переселение в Берлин не очень их радует, а между тем это самое разумное и благоприятное решение из всех для меня возможных. Госпожа Бюлов по характеру, привычкам, духовной культуре и положению наилучшим образом соответствует порученной ей задаче»[473]. Тогда же Лист писал своей матери: «Что касается музыкального образования, то под руководством Ганса фон Бюлова, которого я люблю, как второго сына, и считаю превосходным талантом, то оно будет протекать в условиях лучших, чем где бы то ни было»[474].
Целый счастливый месяц провели Бландина, Козима и Даниель в Альтенбурге. Но пришла пора расстаться. Превозмогая сердечную боль, Лист простился с дочерьми. Уже 30 сентября Ганс фон Бюлов писал Листу, желая хоть немного рассеять его тревогу: «Дорогой учитель, Вы хотите, чтобы я сообщил Вам о барышнях Лист. До сегодняшнего дня я был не способен на это, находясь в состоянии удивления, изумления, более того, восхищения, в которое эти молодые дамы, в особенности младшая, меня ввергли. Что касается их склонности к музыке, то ее следует назвать не способностью, а гениальностью. На самом деле, дочери моего благодетеля — совершенно исключительные существа… Я часто играю с ними на фортепьяно пьесы, переложенные для четырех рук. Анализирую с ними музыку и с педантизмом, скорее слишком большим, чем недостаточным, контролирую их учение. Никогда не забуду тот прекрасный вечер, когда я сыграл им, а потом вновь и вновь повторял Ваш „Псалом“[475]. Оба ангела почти коленопреклоненно предались обожанию своего отца. Они лучше всех других понимают Ваши шедевры и действительно являются „слушателями, данными самой природой“. Меня чрезвычайно растрогало и взволновало, когда в игре барышни Козимы я обнаружил Вас — ipsissimum Lisztum» [476].
Даниель возвратился в Париж, но с тех пор каждые летние каникулы проводил с отцом.
Между тем из Российской империи пришли сведения, что Николай Петрович Витгенштейн получил от Протестантской церкви разрешение на развод. Казалось бы, препятствия к вступлению Каролины в брак с Листом устранены. Однако, как мы помним, сама она принадлежала к Католической церкви, запрещающей разводы. Фактически после развода с мужем в 1855 году Каролина получила светскую свободу, ей больше не нужно было добиваться высочайшего разрешения на развод. В то же время для нее всё равно была исключена возможность нового брака, пока ее муж оставался жив и брак не был признан недействительным. Требовалось аннулирование брака Католической церковью. Кстати, одним из наиболее реальных путей достижения этой цели стало бы признание того, что Каролину выдали замуж без ее согласия. Пока же ни развод с Николаем Витгенштейном, ни даже его женитьба в январе 1857 года на Марии Васильевне Михайловой (1830–1864) не продвинули Каролину к узакониванию отношений с Листом, к чему оба так стремились.
Лист вернулся к работе и написал две статьи, «Роберт Шуман» и «Клара Шуман», посвященные творчеству своих «друзей-врагов». Несмотря на открытое неприятие четой Шуман исповедуемой им «музыкальной религии», он столь же открыто выражал восхищение их талантами.
В середине октября Лист уехал в Брауншвейг, где на концерте 18-го числа дирижировал своими симфоническими поэмами «Орфей» и «Прометей»; вторая впервые исполнялась в новой редакции. На следующий день он уже был в Берлине, чтобы повидаться с дочерьми и семейством фон Бюлов.
Девятнадцатое октября 1855 года можно считать одним из узловых моментов в жизни Листа, и не только его. Вечером состоялся концерт под управлением Ганса фон Бюлова, который, верный идеалам своего учителя, ввел в программу увертюру к «Тангейзеру». Во время исполнения вагнеровской музыки в зале раздались свистки и шиканье. Ганс мужественно продолжал дирижировать, однако публика постепенно пришла в неистовство, и концерт закончился грандиозным скандалом. От пережитого нервного потрясения дирижер потерял сознание… Он пришел в себя на руках младшей дочери Листа. Козима, как могла, утешала его. Любовь, жертвенная, всеискупающая Любовь, главное «действующее лицо» всех музыкальных драм Вагнера, совершила чудо: музыка соединила их сердца. Не иначе как под ее влиянием в ту ночь Ганс и Козима обручились.
Но об их решении Лист еще не знал. Вернувшись в Веймар, он хотел отметить в узком кругу свой день рождения. Тихого праздника не получилось: «нововеймарцы» устроили в его честь настоящее торжество со сценическими представлениями и музыкой.
Лист вновь окунулся в работу — нельзя было пренебрегать обязанностями придворного капельмейстера. 10 ноября в веймарском придворном театре он дирижировал «Пуританами» Беллини; 18-го числа под его управлением с успехом прошли «Гугеноты» Мейербера.
А 25 ноября Лист снова выехал в столицу Пруссии: на 6 декабря был назначен концерт из его произведений. Но сердце сжимала безотчетная тревога.
В назначенный день Лист дирижировал берлинским концертом: симфоническая поэма «Прелюды», «Аве Мария» для смешанного хора и оркестра, Первый фортепьянный концерт Es-dur (партию фортепьяно исполнял Ганс фон Бюлов), симфоническая поэма «Тассо», премьера 13-го псалма для тенора, хора и оркестра. После концерта в честь композитора был устроен торжественный банкет.
Известие о намечающейся свадьбе Козимы и Ганса явилось для него полной неожиданностью. Конечно, он не скрывал радости от того, что два дорогих его сердцу человека решили соединить судьбы. Только истинная ли любовь вспыхнула столь внезапно? Не принесет ли скоропалительное решение страдания обоим? Лист попросил их повременить со свадьбой, отложить ее на год, чтобы проверить чувства. Ему казалось, что таким образом он убережет «детей» от беды. Успокоенный, 14 декабря он возвратился в Веймар.
1856 год начался с подготовки празднования столетия со дня рождения Моцарта. 12 января Лист провел в веймарском придворном театре «Сомнамбулу» Беллини и уже через несколько дней уехал в Вену для участия в главных торжествах. 27 января под управлением Листа состоялся исторический концерт, программа которого включала увертюру и хор жрецов «О Изида и Осирис» из «Волшебной флейты», фортепьянный концерт c-moll, «День гнева» (Dies irae) из «Реквиема», Сороковую симфонию g-moll, арию Дон Жуана и финал 1-го действия из «Дон Жуана». На следующий день концерт был полностью повторен.
Вернувшись в Веймар, Лист 3 февраля дирижировал «Дон Жуаном» уже на сцене придворного театра. Моцартовские торжества 1856 года завершились для него написанием статьи «Моцарт», в которой не последнее место занимают его рассуждения о синтезе искусств — кредо программной музыки.
Поэтому вполне закономерно, что сразу после музыки Моцарта Лист вновь окунулся в атмосферу творчества Берлиоза, заново разучив с труппой театра и представив на сцене 16 февраля «Бенвенуто Челлини». Кстати, на этом спектакле присутствовала не только виновница торжества вдовствующая великая герцогиня Мария Павловна, но и сам автор оперы, лично приглашенный Листом. Берлиоз оставался в Веймаре еще несколько дней. 24 февраля он посетил представление «Лоэнгрина», но, к удивлению Листа, довольно резко выступил против музыки Вагнера и покинул театр, не дожидаясь окончания спектакля.
Гораздо спокойнее публика приняла бетховенского «Фиделио», прошедшего 19 марта, и оперу «Двое Фоскари» Верди, которой Лист дирижировал 8 апреля.
А с середины апреля для Листа начался «дантов ад» в связи с подготовкой к исполнению в Венгрии «Эстергомской мессы».
Было бы большим заблуждением считать, что на родине Лист пользовался исключительно славой и почетом и не имел воинственных противников. Все восторги, вызванные его прошлыми гастролями в Венгрии, относились по большей части к его исполнительскому гению, за который ему прощали попытки реализовать себя как композитора, и то с учетом патриотической направленности его произведений.
Ныне дело обстояло иначе. «Эстергомская месса» была не просто необычна для слушателя; это было новое, слишком новое слово в церковной музыке. Рутинерам всех мастей нужно было остановить Листа…
К сожалению, к лагерю его недоброжелателей начали примыкать даже бывшие друзья. Против «Эстергомской мессы» выступил граф Лео Фештетич — в письме он объяснял Листу, что «Мессу» невозможно исполнить из-за чрезмерного количества музыкантов, которых якобы не в состоянии вместить галерея базилики, а также из-за затянутости произведения[477]. Лист ответил ему письмом от 27 апреля (копию он послал Анталу Аугусу): «Есть только две возможности: или хотят слышать достойную церковную музыку, или не хотят. В первом случае я ограничу число исполнителей соразмерно местным условиям, ибо мое уважение к празднеству обязывает меня всеми способами содействовать его успеху, независимо от того, исполнят мою мессу или Бетховена, Палестрины или Лассо»[478]. Он действительно пошел на уступки — сократил и часть партитуры, и состав исполнителей, оставив всего 75 человек: четыре солиста, 41 оркестрант, 30 хористов[479]. Но уверенности, что исполнение состоится, всё равно не было.
Одновременно с треволнениями, связанными с творчеством, еще одна проблема занимала Листа всё это время — амнистия Вагнера, до сих пор находившегося в изгнании и стремившегося вернуться на родину. Вот весьма показательный отрывок из письма Вагнера Листу от 13 апреля 1856 года: «…согласен ли ты, опираясь на рекомендательное письмо великого герцога Веймарского, испросить для себя аудиенцию у короля Саксонского? Что именно тебе следует сказать королю на этой аудиенции, объяснять не должен. Но, конечно, мы солидарны в том, что, передавая мою просьбу о помиловании, надо подчеркнуть исключительно мою художественно-артистическую деятельность, поскольку именно ею, индивидуальным характером моей личности, объясняются и оправдываются мои чрезмерные политические увлечения. Весь вопрос об амнистии следует поставить на эту почву. <…> Как художник я нахожусь теперь, к счастью, в той стадии развития, когда перед глазами моими может стоять только одно: самое дело моего искусства, удача в труде, а не успехе в толпе»[480].
Лист, как мог, старался помочь другу. Но пока что и с решением этой задачи ничего не получалось.
Тем временем Лист провел в веймарском придворном театре еще три спектакля: 30 апреля «Орфея и Эвридику» Глюка, 6 мая «Лукрецию Борджиа» Доницетти и 8 мая глюковскую «Ифигению в Авлиде», — после чего отправился в Мерзебург (Merseburg), чтобы устроить «маленькую репетицию» перед Эстергомом.
В кафедральном соборе Мерзебурга устанавливали новый орган. Лист написал органную «Прелюдию и фугу на тему В-А-С-Н» (Pr?ludium und Fuge ?ber den Namen B-A-C-H)[481]. 13 мая ученик Листа Александр Винтербергер[482] впервые исполнил ее в стенах собора, совершив своеобразный «обряд освящения» нового инструмента.
А между тем «эстергомские» тучи над головой Листа сгущались. 26 мая он получил письмо от самого архиепископа Эстергомского и примаса Венгрии Яноша Сцитовского, ставившего его перед фактом, что при освящении базилики будет исполнена месса другого композитора…
Лист тогда занимался подготовкой Музыкального фестиваля на Эльбе, проводимого в Магдебурге 14 июня. Программа концерта весьма символично включала бетховенскую Девятую симфонию и фрагменты вагнеровского «Летучего Голландца» — своеобразный «мост» идеалов «нововеймарцев». В круговороте забот, связанных с фестивалем, Лист обратился за помощью к Анталу Аугусу, доверенному лицу архиепископа. И то, что при освящении базилики была исполнена именно месса Листа, — целиком заслуга Аугуса, употребившего для этого всё свое влияние. Как видим, не только Лист бескорыстно помогал друзьям.
В ожидании эпохального события, каким рисовался Листу предстоящий праздник в Эстергоме, он 8 июля 1856 года завершил «Симфонию к „Божественной комедии“ Данте» (Eine Symphonie zu Dantes «Divina Commedia»), часто называемую просто «Данте-симфонией». Следуя совету Вагнера, Лист остановился на двух частях — «Аде» (Inferno) и «Чистилище» (Purgatorio). Как и обещал, он посвятил симфонию Вагнеру: «Подобно тому, как Вергилий вел Данте, так и ты ввел меня в таинственные области мира пронизанных жизнью звуков. Из глубины души я взываю к тебе: Tu sei ’l mio maestro, e’L mio autore! [483] И тебе посвящаю я это произведение! Прими этот знак преклонения от друга, дружба которого никогда тебе не изменит»[484]. Эта симфония, несмотря на некоторые творческие разногласия, стала для Вагнера самым любимым произведением Листа, «воплощением души дантовской поэзии в ее чистейшей просветленности».
Лето 1856 года можно считать началом работы над одной из вершин духовного наследия Листа — ораторией «Легенда о святой Елизавете». Именно в средневековом значении слова «легенда» — рассказ о житии святого — трактовал Лист этот жанр. Впоследствии, кроме «Легенды о святой Елизавете», завершенной в 1862 году, он создал целую серию легенд, как вокальных, так и чисто инструментальных: в 1863-м — «Святой Франциск Ассизский. Проповедь птицам» и «Святой Франциск из Паолы, идущий по волнам»; в 1874-м — «Легенда о святой Цецилии»; в 1884-м — «Святой Христофор»; так и не доведенная до конца «Легенда о святом Станиславе»…
Пока что Лист получил первые готовые части текста будущей оратории, написанные немецким поэтом Отто Рокеттом (Roquette; 1824–1896). Начался процесс создания «Легенды о святой Елизавете», растянувшийся на долгие годы…
Тем временем 27 июля Лист сообщил Аугусу о победе в «эстергомском деле»: «Его высокопреосвященство дал согласие на исполнение моей мессы и окончательно назначил его на день освящения. Разреши поблагодарить тебя за твои дружеские хлопоты. Надеюсь, что мы без особых бед доживем до хорошего исполнения мессы, которой смогут быть довольны и мои прежние враги»[485].
А 29 июля умер Шуман, и весть о его кончине была воспринята Листом с искренней печалью. На протяжении всей жизни Лист никогда не упускал случая пропагандировать творчество Шумана и никогда не держал камень за пазухой, несмотря на то, что Шуман открыто выступал против него. Теперь Шумана не стало, но «шумановский лагерь» стал еще более нетерпим…
В начале августа Лист отправился в Венгрию и уже 10-го числа прибыл в Эстергом, чтобы лично нанести визит Яношу Сцитовскому, посетить базилику и оценить состояние органа. Не задерживаясь, на следующий же день он отправился в Пешт, где должны были проходить репетиции «Эстергомской мессы».
Здесь произошли два эпизода, как нельзя лучше характеризующие Листа. Он свел знакомство с композитором Михаем Мошоньи, тогда еще носившим фамилию Бранд[486]. Чтобы поддержать нового друга в его благородных начинаниях по пропаганде венгерской национальной музыки, Лист, по горло занятый репетициями, всё же нашел время продирижировать двумя частями его мессы (Offertorium и Gradu?le) в приходской церкви центрального пештского района Белварош (Belv?ros). А 26 августа при огромном скоплении народа в зале Национального музея прошла генеральная репетиция «Эстергомской мессы». Все деньги, полученные за это сочинение, Лист пожертвовал на строительство базилики Святого Иштвана[487] в Липотвароше (Lip?tv?ros), как в свое время жертвовал средства на строительство Кёльнского собора. Самоотверженная помощь друзьям и благотворительность — имя Листа для этих понятий может считаться нарицательным.
Успех «Эстергомской мессы» в Пеште превзошел все ожидания. Пресса единодушно утверждала, что теперь-то все противники великого Листа «превратятся в ничто перед великолепием этого произведения и возвышенностью его стиля». Окрыленный Лист выехал в Эстергом.
Наконец, 31 августа в десять утра началась церемония освящения базилики Вознесения Пресвятой Девы Марии и Святого Адальберта. Четыре тысячи слушателей, включая самого императора Австрийской империи, короля Богемии и апостолического короля Венгрии Франца Иосифа I и членов его семьи, собрались под сводами собора. Около двух часов пополудни наступила очередь исполнить «Эстергомскую мессу» Листа.
Ныне туристам, посещающим Эстергом, с гордостью показывают беломраморную мемориальную доску на внутренней стене базилики, установленную в память об этом знаменательном дне, и орган, клавиш которого касались руки Листа (правда, непосредственно во время церемонии освящения базилики партию органа в «Эстергомской мессе» исполнял Александр Винтербергер, а сам композитор стоял за дирижерским пультом). Но 31 августа 1856 года музыка Листа была воспринята далеко не однозначно. И хотя сам Янош Сцитовский пришел от «Мессы» в восторг, это не помешало ему на торжественном банкете отвести место композитору за вторым столом. Тогда Лист предпочел сесть вместе с остальными музыкантами, отдельно от высоких особ.
Своеобразной сатисфакцией стало исполнение «Эстергомской мессы» 4 сентября в Пеште, в приходской церкви Белвароша. Лист вновь дирижировал, а после отмечал, что и исполнители играли гораздо лучше, глубже проникая в смысл музыки, и многие слушатели в набитой до отказа церкви растрогались до слез.
Лист не спешил покидать родину. 8 сентября он дал еще один концерт из своих произведений, в числе которых впервые представил публике симфоническую поэму «Венгрия», а 13-го числа встретился с монахами-францисканцами, объявив о своем горячем желании стать членом ордена в миру. Тем, кто считает последующее принятие Листом духовного сана «чужим влиянием», «изменой самому себе» и «поворотом на 180 градусов», стоит вспомнить, сколько раз Лист доказывал неизменность своих духовных идеалов, и признать, наконец, насколько обдуманным и взвешенным явился этот шаг.
В Веймар Лист возвращался через Вену и Прагу, где 28 сентября в очередной раз дирижировал «Эстергомской мессой». Правда, в Праге успеха не наблюдалось, исполнение прошло не замеченным местной прессой.
Первого октября Лист переступил порог Альтенбурга, но уже через четыре дня отправился в Швейцарию на долгожданную встречу с Вагнером. Он уехал один, Каролина с дочерью должна была присоединиться к нему позднее.
Друзья встретились в Цюрихе 13 октября. Вагнер оставил о «швейцарских днях» Листа очень интересные воспоминания. Обратимся к этому свидетельству эпохи; вынужденное пространное цитирование поможет максимально «оживить» наших героев, показав их не только гениями искусства, но и обычными людьми со слабостями и особенностями характера:
«Он явился сперва один и тотчас же внес в мой дом большое оживление по части музыки. Он успел уже закончить свои симфонии „Фауст“ и „Данте“ и сыграл мне их на рояле по партитуре. Его исполнение было поистине чудесно. Будучи уверен, что Лист достаточно убедился в огромном впечатлении, произведенном на меня обеими вещами, я счел себя вправе откровенно указать ему на промахи в конце дантовской композиции. Для меня самым убедительным свидетельством замечательной силы Листа в области поэтических концепций являлся первоначальный финал симфонии „Фауст“, нежный и благоуханный, с последним всепобеждающим воспоминанием о Гретхен, чуждый всякого стремления насильственно привлечь внимание слушателя. Совершенно также, казалось мне, был первоначально задумай эпилог дантовской симфонии, в котором „Рай“ благодаря нежному вступлению Magnificat был опять-таки намечен лишь мягким, кротким, уносящим аккордом. Тем сильнее был мой испуг, когда я увидел, что этот прекрасный замысел нарушен заключением, которое, как сказал мне Лист, должно было изображать Domenico. „Нет, нет! — воскликнул я. — Не нужно этого! Долой! Оставь державного Господа! Останемся при мягком, благородном аккорде вознесения!“ — „Ты прав, — ответил Лист, — я говорил то же самое, но княгиня настроила меня иначе. Теперь будет по-твоему!“ Это было прекрасно. Но тем сильнее было мое огорчение впоследствии. Оказалось, что уцелел не только этот финал „Данте“[488], но что изменению подвергся и столь понравившийся мне эпилог „Фауста“: в него были введены хоры, имевшие задачей придать ему более эффектный характер. Вот как складывались мои отношения к Листу и его приятельнице Каролине Витгенштейн»[489].
Мы уже отмечали, что оба композитора весьма благотворно влияли друг на друга. Однако, несмотря на многочисленные совпадения во взглядах на пути дальнейшего развития музыкального искусства, у них были существенные расхождения в практическом подходе к творчеству. Пианист и музыковед, глубокий исследователь творчества Листа Яков Исаакович Мильштейн заметил: «Если Вагнер чаще всего основывается в своей системе лейтмотивов на сопоставлении обособленных, резко контрастирующих между собой тем, которые путем комбинирования сближает друг с другом, то Лист исходит, обычно, из единого тематического эмбриона, который он путем сложного варьирования развертывает в ряд совершенно различных по своему характеру тем. Вагнер идет от частного и единичного к общему, Лист, наоборот, от общего к частному и единичному»[490].
При всём уважении к взглядам Листа Вагнер был далек от того, чтобы также принять его творческие методы, а тем более пытаться копировать их, в чем его иногда обвиняют. Особенности композиторского почерка Листа давали Вагнеру повод иногда даже несколько пренебрежительно отзываться о творчестве своего «духовного отца», что впоследствии отмечала в своих дневниках, в частности, дочь Листа Козима. Один из красноречивых примеров приводит Я. И. Мильштейн: «Сам Вагнер как-то не без иронии заметил о симфонических поэмах Листа: „Я часто после первых же шестнадцати тактов восклицал в изумлении: „Довольно, я понял всё!““» [491].
Достаточно добавить, что даже сам оперный жанр — основной в творчестве Вагнера — несмотря на многочисленные наброски и планы, Листу так и не покорился. «Лист, — отмечает Мильштейн, — …неуклонно стремился к созданию инструментальной программной музыки (и это было его главной целью); даже оратории, которые Вагнер, исходя из эстетических принципов своей музыкальной драмы, как-то назвал „бесполыми оперными эмбрионами“, Лист рассматривал как произведения, прежде всего углубляющие и расширяющие симфоническую программность. Жанр оперы лежал в стороне от этой столбовой дороги… К тому же он, по самому складу своего дарования, не был оперным композитором, каким, скажем, был его друг Вагнер. По мнению Листа, условности оперной сцены связывают фантазию композитора, лишают ее „волшебства перспективы“, „игры полутеней“, свободы психологических переживаний» [492].
Еще один эпизод из ценных воспоминаний Вагнера весьма красноречиво «из первых уст» характеризует Листа — на этот раз не его творчество, а его личность:
«В скором времени ожидался приезд самой княгини Витгенштейн и ее дочери Марии. Для их приема были сделаны все необходимые приготовления. Незадолго до этого в моем доме произошло неприятное столкновение между Листом и Карлом Риттером[493]. Листа, по-видимому, раздражала самая наружность Риттера, особенно же злила его манера Карла безапелляционно выражать свое несогласие с собеседником. Однажды вечером Лист импонирующим тоном заговорил о заслугах иезуитов и был неприятно задет бестактной улыбкой Карла по поводу его слов. За столом разговор коснулся французского императора Луи Наполеона. Лист хотел заставить нас признать заслуги Наполеона, тогда как мы не склонны были лестно отзываться о французских делах. Желая представить в выгодном свете значение Франции для европейской культуры, Лист, между прочим, упомянул о Французской академии, что снова вызвало фатальную усмешку Карла. Это вывело Листа из себя, и у него вырвалась приблизительно следующая фраза: „Не признавать этого могут только павианы, а не люди“. Я рассмеялся, улыбнулся и Карл, но на этот раз крайне смущенно: как я узнал потом от Бюлова, Риттера во время горячих юношеских споров иногда называли Павианом. Вскоре стало ясно, что Карл почувствовал себя жестоко оскорбленным словами, которые позволил себе произнести Herr Doktor, как величал он Листа. Он с негодованием покинул мой дом, чтобы долго не переступать его порога. Через несколько дней Карл прислал мне письмо, в котором ставил следующую альтернативу: либо Лист должен извиниться перед ним, либо, если это невозможно, я должен отказать Листу от дома… Лист, когда узнал о происшедшей размолвке, был этим очень огорчен и с достойным уважения великодушием сделал первый шаг к примирению, отправившись с визитом к Карлу. Об инциденте не было сказано ни слова. Однако Риттер отдал визит не Листу, а приехавшей в это время княгине Витгенштейн»[494].
Безоговорочная любовь Листа к Франции, которую он считал своей второй родиной, а также принадлежность к разным конфессиям (впоследствии Листа больно задел переход его дочери Козимы в протестантизм) на протяжении всего общения между «друзьями-родственниками» являлись камнем преткновения. Слишком глубока была антипатия Вагнера ко всему французскому в пользу «истинно немецкого». Так что описанный выше конфликт, несмотря на кажущуюся незначительность, является ярким примером столкновения принципов и убеждений, происходившего и при последующем общении двух великих композиторов.
Но Вагнер не только подмечает черты личности друга и коллеги — он рисует тонкий психологический портрет княгини Витгенштейн. Этот взгляд со стороны особенно ценен для понимания многих внутренних процессов, происходивших между Листом и его спутницей жизни, так как черты характера ярче всего проявляются именно в бытовых мелочах:
«Приезд княгини Каролины с дочерью Марией… внес много жизни не только в мой скромный дом, но и в город Цюрих вообще. Своеобразное возбуждение, которое вызывала княгиня повсюду, где бы она ни появлялась, отразилось даже и на моей сестре Кларе. <…> Цюрих внезапно превратился в мировой центр. Усилилось движение экипажей, везде происходили приемы, устраивались обеды, ужины. Откуда-то появилось много интересных людей, о существовании которых мы и не подозревали. Одного музыканта, Винтербергера, считавшего необходимым корчить из себя оригинала, привез еще Лист… Особенно замечательно то, что княгиня сумела вытащить на свет сидевших по своим углам профессоров здешнего университета. То она вела беседы с каждым отдельно, то угощала ими en masse[495] нас всех. <…> В обществе княгини царили облегчающие сближение свобода и непринужденность. Особенно отличались уютной задушевностью те менее парадные вечера, когда знакомые собирались у меня и княгиня с польским патриархальным радушием помогала моей жене хозяйничать за столом. <…> Но венцом наших маленьких торжеств явился день 22 октября, день рождения Листа, который княгиня отпраздновала с великой помпой. На ее квартире было собрано всё, что только мог дать Цюрих. Телеграф принес из Веймара стихотворение Гофмана фон Фаллерслебена, и по приглашению княгини Гервег торжественно прочел его удивительно изменившимся голосом. Затем под аккомпанемент Листа я исполнил вместе с госпожой Гейм первый акт и одну сцену из второго акта „Валькирии“. Наше пение произвело хорошее впечатление… Кроме того, на двух роялях было сыграно кое-что из симфонических произведений Листа. Во время парадного обеда возник спор о Генрихе Гейне, по адресу которого Лист высказал много нелестных вещей. <…> К сожалению, наше общество вскоре расстроилось из-за выступившей у Листа сыпи. В течение некоторого времени он был прикован к постели. Когда он оправился, мы снова засели за рояль с партитурами „Золота Рейна“ и „Валькирии“… Княгине Витгенштейн, по-видимому, очень хотелось выяснить истинный смысл „интриги“ „Кольца нибелунга“, а именно — вопрос о судьбе богов… Я не мог не убедиться, что ей хотелось постичь именно нежнейшие и глубинные черты моего творчества. Но самое понимание носило у нее характер какой-то арифметики, какой-то математики. <…> Живость характера сочеталась у нее с мягкостью и благожелательностью. Когда я однажды заметил ей, что, если бы мне пришлось постоянно быть в ее обществе, ее экспансивность уже после первых четырех недель довела бы меня до самоубийства, она чистосердечно рассмеялась мне в ответ»[496].
Несомненно, что раздражительность Листа, о которой постоянно говорит Вагнер, была тогда вызвана его нездоровьем и нежеланием в угоду скорейшему выздоровлению ограничивать себя в привычках, не способствовавших здоровому образу жизни.
«Помню один удачный вечер у Гервега, — продолжает Вагнер. — Лист играл на отвратительном, расстроенном рояле, приведшем его в такой же восторг, в какой приводили его ужасные сигары, которые он курил тогда с наслаждением, предпочитая более тонким сортам. Он дивно играл на рояле какую-то свою импровизацию: это было не чудо, а колдовство музыкального творчества. Но в эти дни, к большому моему ужасу, чрезмерная раздражительность, придирчивая резкость, как она сказалась в столкновении с Карлом Риттером, прорывалась у Листа несколько раз. Он резко говорил о Гёте, особенно в присутствии княгини. Обмен мнениями об Эгмонте, характер которого он ставил не высоко, потому что тот дал „обмануть“ себя герцогу Альбе[497], чуть не вызвал между нами ссору. Зная, что не следует его раздражать, я сохранял полное спокойствие. Я считался больше с физиологическими особенностями его характера, с его настроением, чем с предметом спора. Никаких столкновений на этой почве между нами не произошло. Но я сохранил неясное предчувствие, что когда-нибудь дело дойдет до серьезного конфликта, и это будет ужасно»[498].
Серьезные конфликты впоследствии не единожды происходили между Листом и Вагнером. И тот и другой не могли не чувствовать их неизбежность. И вот что удивительно: насколько в принципиальных вопросах искусства, во взглядах на развитие музыки и театра они были абсолютно согласны друг с другом, настолько же во всём, что выходило за рамки искусства, являли собой полную противоположность. Можно сказать, что Лист действительно олицетворял Францию, а Вагнер — Германию (в то время именно эти страны воспринимались как пример противоборствующих начал). Вместе с тем они представляли собой яркую иллюстрацию к известному выражению: «Политика людей разъединяет, а искусство объединяет». Лист ни на мгновение не забывал о творческих интересах своего друга — ни вдали от него, ни в ежедневном тесном общении.
Десятого ноября Лист писал герцогу Саксен-Веймар-Эйзенахскому Карлу Александру о необходимости создания в Веймаре национального театра для постановок опер Вагнера: «Я считаю себя обязанным вновь обратить внимание Вашего Высочества на одно важное дело и без всякого предисловия перехожу к его сущности. Ради чести и в интересах поддержки, которую Вы, Ваше Высочество, оказываете искусству, а также ради чести той инициативы и того первенства, которые — и я очень прошу об этом — Вы, в меру имеющихся возможностей, должны требовать и удерживать для Веймара, я считаю не только уместным, но необходимым и, так сказать, неизбежным, чтобы „Нибелунги“ Вагнера впервые были поставлены на сцене в Веймаре… Творение Вагнера, половина которого уже готова и которое через два года (летом 1858 года) будет полностью завершено, будет господствовать над этим периодом как самое монументальное создание современного искусства…»[499]
Мечтам Листа о вагнеровском театре в Веймаре не суждено было сбыться. Эту идею позже подхватил другой «ангел-хранитель» Вагнера — Людвиг II Баварский: он сначала намеревался создать подобный театр в Мюнхене, а затем финансировал воплощение этого предприятия в Байройте.
После шестинедельного пребывания в Цюрихе Лист и Вагнер выехали в Сен-Галлен на концерт местного Музыкального общества. 23 ноября Лист дирижировал своими симфоническими поэмами «Орфей» и «Прелюды», а Вагнер — «Героической симфонией» Бетховена. Вагнер вспоминал: «Лист разучивал с оркестром две свои композиции… и его мастерство доставило мне истинное наслаждение. Несмотря на очень скромный состав исполнителей, он провел эти вещи прекрасно, с большим подъемом. <…> На Листа, мнение которого меня только и интересовало, моя передача Бетховена произвела очень глубокое впечатление. Он верно понял мой замысел. Чутко и проникновенно мы слушали то, что каждый из нас исполнял на этом концерте»[500].
Возвращение в Веймар пришлось отложить на несколько дней из-за болезни княгини Витгенштейн. Лист и Каролина выехали из Сен-Галлена лишь 27 ноября. Уставший и еще не до конца оправившийся от всех недомоганий Лист вернулся к обязанностям придворного капельмейстера 7 декабря. Словно символически замыкая 1856 год, он дирижировал в этот день «Дон Жуаном», а 26 декабря — «Тангейзером».
На Рождество в Альтенбург приехал Даниель, только что получивший степень бакалавра. На этот раз он остался на целых четыре месяца и очень подружился с княжной Марией. Он собирался поступать в Венский университет и мечтал о карьере юриста. Казалось, жизнь наконец-то начала обретать ту безмятежность, которой Листу порой так отчетливо не хватало.
В 1857 году исполнилось десять лет, как Лист поселился в Веймаре.
Январь принес Листу сразу две премьеры его собственных произведений: 7-го числа в стенах веймарского придворного театра прозвучали Второй фортепьянный концерт A-dur и окончательная редакция симфонической поэмы «Что слышно на горе», над которой Лист работал все десять лет. А 22-го в Берлине Ганс фон Бюлов играл сонату h-moll. Весьма показательно, что первым исполнением этой единственной литовской сонаты был «освящен» первый концертный рояль знаменитой музыкальной фирмы Карла Бехштейна[501], изготовленный специально для Ганса фон Бюлова.
Лист чувствовал необычайный прилив вдохновения. Ему казалось, что наступающий год будет весьма урожайным на новые произведения. И первым среди них стала законченная 10 февраля симфоническая поэма «Битва гуннов» (Hunnenschlacht), рожденная под впечатлением от одноименной фрески Вильгельма фон Каульбаха, с которым Лист лично познакомился еще в 1843 году. К созданию поэмы подтолкнуло внешнее обстоятельство: «Княгиня вернулась из своей берлинской поездки, предпринятой для ознакомления с художественными ценностями, очень довольной. Среди прочих вещей она привезла очень красивый эскиз Каульбаха „Битва гуннов“. У меня появилось большое желание написать по этому эскизу музыкальное сочинение. Разумеется, это не будет соло для гитары, и мне придется привести в движение хорошую порцию меди»[502].
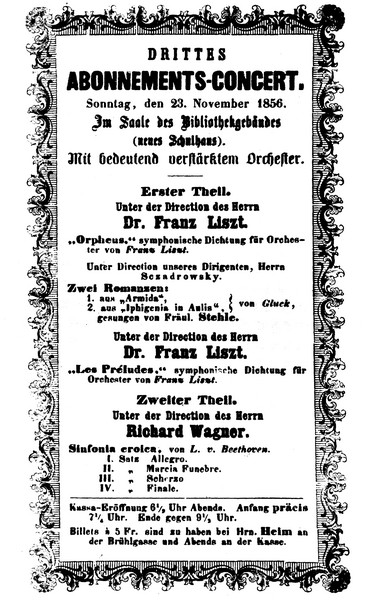
Афиша совместного концерта Листа и Вагнера в Сен-Галлене 23 ноября 1856 года
Традиционный праздничный день 16 февраля был отмечен постановкой глюковской «Армиды». А в творческих планах Листа вновь возникла оратория «Христос». В свое время Гервег так и не написал к ней текст, и теперь Лист обратился к Петеру Корнелиусу и Каролине Витгенштейн, чей литературный талант был ему хорошо известен. (Забегая вперед скажем, что и на этот раз текст написан не был.)
В конце февраля Лист выехал в Лейпциг, уже давно бывший своеобразным оплотом «лагеря Шумана» — противников Нового Веймарского союза. Листу с программой, состоявшей из симфонических поэм «Прелюды» и «Мазепа», отрывков из «Летучего Голландца» и Первого фортепьянного концерта Es-dur, было не просто получить признание у лейпцигской публики. Концерт состоялся в Гевандхаузе 26 февраля и был объявлен благотворительным. Лист дирижировал; партию фортепьяно исполнял Ганс фон Бюлов. Публика была холодна, «Мазепу» вообще восприняла в штыки; критики истекали ядом…
Домой Лист вернулся тяжелобольным — из-за волдырей на ногах не мог ни ходить, ни стоять за дирижерским пультом. Чтобы не нарушать репертуарный план театра, он испросил у великого герцога разрешение дирижировать сидя и уже 13 марта провел «Орфея и Эвридику» Глюка. Лишь к 19 апреля, когда в придворном театре должен был идти «Лоэнгрин», Лист почувствовал себя несколько лучше и начал, по его собственным словам, «ковылять в театре и в замке».
Настроение день ото дня становилось мрачнее, от воодушевления начала года не осталось и следа. Вечером после представления «Лоэнгрина» Лист с горечью писал Вагнеру: «Должен тебе откровенно признаться, что когда я привез свои вещи в Цюрих, я еще не знал, как ты примешь их, какими найдешь. Мне уже пришлось так много слышать и читать о них, что у меня, в сущности, уже не осталось никакого собственного мнения, и я работаю, лишь следуя неистребимому внутреннему побуждению, без малейшей претензии на признание или одобрение. Многим моим близким друзьям, например, Иоахиму, а раньше Шуману и другим, мои музыкальные творения чужды, они взирают на них с тревогой и неодобрением»[503]. Он уже остро чувствовал творческое одиночество.
В середине апреля Веймар покинул Даниель, уехавший в Вену (его первое письмо, отправленное отцу после отъезда, датировано 23 апреля). Без труда поступив в Венский университет, юноша всецело отдался учебе.
Проводив сына, Лист вернулся к капельмейстерской деятельности. 2 мая он повторил для веймарской публики «Лоэнгрина» и начал подготовку к очередному, XXV Нижнерейнскому музыкальному фестивалю, проходящему с 31 мая по 2 июня в Ахене (кстати, здесь Лист опять встретился с Агнес Стрит-Клиндворт). Наряду с произведениями Бетховена, Генделя, Баха, Шуберта и Берлиоза он включил в программу балладу Шумана «Проклятие певца» для солистов, хора и оркестра. Однако механизм травли и клеветы был уже запущен: газеты писали, что он «не умеет дирижировать», «не умеет писать музыку» и «годен только для того, чтобы играть на фортепьяно». В итоге публика встретила Листа свистом и шиканьем. Было от чего впасть в отчаяние. Но он ответил исполнением 20 июня в Веймаре… оратории Шумана «Рай и Пери» из двадцати шести номеров.
Лист еще верил, что в Веймар стекаются верные его идеалам союзники, находил утешение в успехах друзей, всячески содействовал их продвижению в искусстве, помогал, ободрял. Одним из новых членов листовского кружка стал Франц фон Дингельштедт — Лист давно звал его в Веймар и ходатайствовал о назначении его театральным интендантом.
Между тем от творческих переживаний Лист был отвлечен важными семейными событиями. В начале августа он отправился в Берлин, чтобы присутствовать на свадьбе Козимы и Ганса фон Бюлова. Торжественная церемония состоялась 18 августа, и новобрачные уехали в свадебное путешествие… к Вагнеру в Цюрих. Оба были самыми горячими его поклонниками и мечтали получить его благословение.
Умиротворенный Лист вернулся в Веймар, где 4 сентября состоялось торжественное открытие памятника Гёте и Шиллеру работы Ритшеля. 5 сентября в праздничном концерте в придворном театре Лист дирижировал своей только что законченной симфонической поэмой «Идеалы» (Die Ideale) по Шиллеру и «Фауст-симфонией», также впервые представленной на суд публики. А на следующий день он встал за дирижерский пульт на представлении «Тангейзера». Гёте и Шиллер олицетворяли собой прошлое величие Веймара; Вагнер, по мнению Листа, должен был стать символом его нынешнего величия.
Лист продолжал дирижировать: 27 сентября — «Фиделио» Бетховена, 11 октября — «Свадьбой Фигаро» Моцарта. 21-го числа в городской ратуше был устроен банкет в честь юбилея творческой деятельности Листа в Веймаре.
Тем временем в семье Листа была отпразднована еще одна свадьба: в Париже в день рождения отца Бландина сочеталась браком с преуспевающим французским адвокатом Эмилем Оливье[504]. Лист присутствовать на торжестве не смог. Он писал Агнес Стрит-Клиндворт о новом родственнике: «…согласно многим письмам, которые я получаю о нем, я должен верить, что он завоюет себе прекрасное положение как адвокат и, возможно, как политик, хотя последнее во Франции дело несколько рискованное. Достоверно лишь то, что муж и жена влюблены друг в друга; и потому у меня хорошее чувство от сознания того, что обе мои дочери вышли замуж по велению сердца, но заключили хорошие браки и с точки зрения разума!»[505]
Дети выросли. Выросли вдали от отца. Была ли это сознательная жертва Листа на алтарь искусства? Во всяком случае, приходится признать, что и в семье он оставался одиноким. В сложившихся обстоятельствах не могло быть настоящей душевной близости — было поклонение детей далекому идеалу, полубогу. Не нужно никого ни оправдывать, ни осуждать. Так сложилась жизнь. Лист любил своих детей, как мог, и они тоже любили его, как могли. Но физическое расстояние породило расстояние духовное. Неудивительно, что впоследствии Козима легко предпочла отцу любимого человека.
В начале ноября Лист уехал в Дрезден. 7-го числа он дирижировал премьерой «Данте-симфонии». Критика последовала уничтожающая! Внешне Лист воспринял провал своего детища спокойно, утверждая, что «неудержимо продолжит собственный путь» и что «время всё расставит по своим местам». Но он уже чувствовал первые признаки усталости…
Вернувшись в Веймар, Лист подготовил премьеру «Альцесты» Глюка, которая прошла 26 декабря без особого успеха. Обязанности придворного капельмейстера всё больше тяготили его. Однако отказываться от них было еще рано. 29 декабря в большом придворном концерте впервые прозвучала симфоническая поэма «Битва гуннов». На следующий день под управлением Листа прошел «Фиделио» Бетховена.
Творчество «величайшего немца» всегда волновало Листа и было ему дорого. К началу 1858 года ему пришлось в полном смысле слова встать на защиту Бетховена. Еще в прошлом году Листом была написана статья «Улыбышев и Серов. Критика критики» (Ulibischeff und Seroff. Kritik der Kritik), теперь она была напечатана. На этой статье нужно остановиться особо — и в связи с отношением Листа к Бетховену, и в связи с его взаимоотношениями с русской культурой.
Знакомство Листа с творчеством Серова было овеяно именем Бетховена. После мимолетного общения во время гастролей Листа в Санкт-Петербурге Серов прислал ему в 1847 году свое фортепьянное переложение бетховенской увертюры «Кориолан» с просьбой оценить это сочинение. Лист ответил теплым письмом: «…Музыкальные мнения, излагаемые Вами, совершенно тождественны с моими и уже давно живут у меня в голове, и потому я о них не буду здесь распространяться. Самое большее, что найдется один, только один пункт, в котором наши взгляды заметно расходятся, но этот пункт — не что иное, как моя скромная особа. Вы видите, что я нахожусь в весьма затруднительном положении и выйду из него самым простым способом: искренне поблагодарив Вас за Ваше слишком лестное мнение, которое Вы составили обо мне. <…> Ваше фортепьянное переложение увертюры „Кориолан“ делает величайшую честь Вашей художественной совести и свидетельствует о редкой и терпеливой способности, необходимой для того, чтобы хорошо выполнять подобные задачи»[506].
Через некоторое время Серов прислал Листу свои фортепьянные переложения последних квартетов Бетховена. И снова Лист оценил их чрезвычайно высоко, о чем сообщил не только автору, но и В. В. Стасову в письме от 17 марта 1857 года[507].
В это время в России разгоралась знаменитая полемика вокруг творчества Бетховена, вызванная опубликованной в 1843 году книгой Nouvelle biographie de Mozart («Новая биография Моцарта») одного из основателей русской музыкальной критики Александра Дмитриевича Улыбышева (1794–1858), писавшего о несомненном превосходстве «чистой» музыки над программной, ставя симфонии Моцарта гораздо выше бетховенских. Своеобразным ответом ему стала книга ученика и друга Листа Вильгельма фон Ленца Beethoven et ses trois styles («Бетховен и три его стиля»), вышедшая в Санкт-Петербурге в 1852 году. Серов также выступил с целым рядом статей[508], прославлявших творчество Бетховена.
Улыбышев в долгу не остался. В конце 1855 года он закончил, а в 1857-м опубликовал в Лейпциге книгу Beethoven, ses critiques et ses glossateurs («Бетховен, его критики и толкователи»), где, называя Бетховена «величайшим композитором XIX века», одновременно обвинял его «в дисгармоничности» и «музыкальном помешательстве».
Серов ответил статьей «Улыбышев против Бетховена», вышедшей в 1857 году в «Нойе Цайтшрифт фюр Музик» и вызвавшей бурный отклик в Германии. Именно на нее отреагировал Лист своей «Критикой критики», опубликованной в том же журнале в начале 1858 года. В споре между Улыбышевым и Серовым он, естественно, принял сторону последнего. Как раз тогда Лист написал Стасову, что «Улыбышев не понимает Бетховена и не знает его»[509]. Можно сказать, что таким образом Лист, с его авторитетом среди русских коллег, внес немалый вклад в развитие русской музыкальной критики.
Между тем в Веймаре назревали серьезные перемены. В начале января туда по приглашению Листа приехал молодой композитор и дирижер Эдуард Лассен (Lassen; 1830–1904). Он родился в Копенгагене, а детство провел в Брюсселе. Окончив Брюссельскую консерваторию, в 1851 году Лассен получил за успехи в области композиции Римскую премию, что дало ему возможность совершить длительное путешествие по Германии и Италии. Личное знакомство с Людвигом Шпором и Листом окрылило молодого человека, и он обратился к оперному жанру. В 1855 году была написана его первая опера Le roi Edgard («Король Эдгар»), известная в немецком переводе как Landgraf Ludwigs Brautfahrt («Свадебное путешествие ландграфа Людвига»). Именно Лист, ознакомившись с партитурой, обещал Лассену всяческое содействие в постановке его оперы и добился ее премьеры в веймарском придворном театре 19 мая 1857 года.
Лист пригласил Лассена в Веймар, чтобы тот заменил его на посту придворного капельмейстера. Сам Лист решил постепенно отойти от дел, оставляя за собой право дирижировать не по обязанности, а исключительно по велению сердца. Назначение Лассена полностью себя оправдало: он оставался в должности музикдиректора и главы веймарского оркестра вплоть до 1895 года.
Пока же, еще не сняв с себя обязанности придворного капельмейстера, Лист дирижировал 27 января большим концертом из произведений Моцарта, программа которого включала финал второго акта «Идоменея», Сороковую симфонию и «Реквием». 18 февраля Лист повторил для веймарской публики «Альцесту», а в начале марта покинул Веймар и отправился с концертами в Прагу. 11 марта состоялся благотворительный концерт в пользу нуждающихся студентов Пражского университета. Лист дирижировал исключительно собственными сочинениями: Вторым фортепьянным концертом, в котором с блеском солировал Карл Таузиг, «Данте-симфонией» и симфонической поэмой «Идеалы». 14 марта пражская публика смогла оценить Первый фортепьянный концерт и симфоническую поэму «Тассо». Лист смело утверждал незыблемость своих идеалов, составляя программы из произведений, наиболее четко демонстрировавших его композиторский стиль. Прага приняла их восторженно.
В концертах 22 и 23 марта Лист дирижировал «Эстергомской мессой» в Вене. Он удостоился аудиенции у императора Франца Иосифа, а партитура «Мессы» была издана за государственный счет.
Наконец, 1 апреля Лист вновь ступил на землю родины. 10-го числа в Пеште в зале Национального музея он дал благотворительный концерт в пользу основания национальной консерватории. Вновь была исполнена «Эстергомская месса», которую на следующий день пришлось повторить в приходской церкви Белвароша.
Из Пешта путь Листа лежал в Лёвенберг (L?wenberg)[510], где он провел вторую половину апреля в гостях у князя Константина фон Гогенцоллерн-Гехингена[511], большого любителя музыки и покровителя искусств. В гостеприимном дворце князя ежедневно устраивались музыкальные вечера, на которых Лист не только играл свои фортепьянные сочинения, но и исполнял симфонические поэмы, управляя местным оркестром, который он находил вполне достойным.
Интересно, что практически в то же время, когда Лист гостил у Гогенцоллерн-Гехингена, Вагнер был приглашен на аудиенцию к великому герцогу Саксен-Веймар-Эйзенахскому, возвращавшемуся из путешествия по Италии и проездом посетившему Люцерн, где композитор тогда жил. Их разговор весьма показателен для характеристики атмосферы, окружавшей Листа в Веймаре. «Из этой беседы я понял, что мои отношения с великим герцогом Баденским по поводу постановки „Тристана“ в Карлсруэ произвели впечатление на веймарский двор. Когда Карл Александр упомянул об этом обстоятельстве, видно было, что он живейшим образом заинтересован в том, чтобы „Нибелунги“ были поставлены на сцене веймарского театра. Ему хотелось услышать от меня уверения, что я предназначаю эту оперу для Веймара. Мне ничего не стоило обещать ему это. <…> Между прочим, великий герцог в изысканных выражениях захотел узнать мое „настоящее мнение“ о композиторской деятельности Листа. На это камергер [фон Больё[512]] заметил, что сочинительство Листа не более как забава великого виртуоза. Я был крайне удивлен, не уловив ни малейшего признака неудовольствия на лице великого герцога. Он равнодушно выслушал такой отзыв о друге, которого чтил высоко. Это выставляло в довольно странном свете дружескую верность герцога. Сам я изо всех сил старался поддерживать серьезный тон разговора. На следующее утро я должен был еще раз посетить великого герцога. Камергера не было, и это обстоятельство благотворно отразилось на его мнениях. Он громко говорил о том, что не может по достоинству не оценить советы и заслуги Листа, то одушевление, какое он вносит повсюду. Вообще он отзывался о Листе в самых теплых выражениях»[513].
В самом начале мая Лист вернулся в Веймар, где практически всё время стал посвящать композиторскому творчеству. Он работал над новой симфонической поэмой «Гамлет» (Hamlet), премьера которой состоялась под его управлением 25 июня в веймарском придворном театре. Это сочинение можно поставить одним из первых в ряду «поздних» произведений композитора. Стиль «позднего Листа» в «Гамлете» ощущается значительно сильнее, чем в близких по времени создания «Идеалах» и «Битве гуннов», что наглядно демонстрирует очередной значительный скачок в эволюции его композиторского таланта. Вот только его истинных ценителей было по-прежнему мало…
Как обычно, в Альтенбург приехало много гостей, среди них — Александр Серов. Важно отметить, что даже такого профессионала, как Серов, в Листе в первую очередь восхищал его исполнительский гений. Александр Николаевич, страстный поклонник творчества Вагнера, ставший идейным провозвестником его идей в России, так и не сумел по достоинству оценить Листа-композитора. Более того, вскоре начиная с 1860-х годов отношения между ними явно охладились. В последние годы жизни Серов не писал Листу, а его произведения, за редким исключением, встречал с отчужденной холодностью — в отличие от Стасова, прошедшего путь от отрицания листовского творчества до его полного принятия; при этом музыка Вагнера находила в лице Стасова одного из самых непримиримых противников. Убежденный «вагнерианец» Серов так и не понял исканий Листа, а идейный «антивагнерианец» Стасов оказался в числе его поклонников.
Справедливости ради следует отметить, что и у Листа оперы Серова не вызывали восторга, чего нельзя сказать о многих других русских операх, например Глинки или Бородина. «Среди присутствовавших на концертах и на репетициях назову еще Серова, который крепко недоволен на меня за мою откровенность насчет его оперы „Юдифь“, с которой я ему посоветовал поступить так, как поступила Юдифь с Олоферном! Представьте, Серов воображает, что он русский Вагнер!!!»[514] — писал Лист Каролине Витгенштейн 30 августа 1864 года.
Но пока Серов проводил в Веймаре незабываемые дни, в полном восторге слушая Листа в домашних концертах. «Что это такое было! Мне представилось, что я в 1842 году, в зале Энгельгардта или Дворянском Собрании, — то же восхитительно-вдохновенное лицо „артиста из артистов“, — то же электрическое, магнетическое, магическое влияние на слушателей… та же ни с чем не сравнимая виртуозность, которой всё нипочем и которая, между тем, только служит мысли! Я только удивляюсь всем концертным пианистам (не исключая и Клару Шуман), как они смеют играть в публике, когда есть на свете такой демон фортепьянного искусства!»[515]
Конец августа и первую половину сентября Лист и Каролина Витгенштейн, позволив себе кратковременный отдых, провели в путешествии по городам Германии и горам Тироля.
Между тем в Веймаре начал набирать силу авторитет Дингельштедта, нового театрального интенданта, бывшего друга и соратника Листа. Вступив в должность, полученную не без стараний Листа, драматург Дингельштедт быстро осознал различие их взглядов на перспективы развития веймарского театра. Опера его не интересовала — он намеревался на веймарской сцене давать драмы. Конечно, совсем исключить оперные спектакли из репертуара было невозможно, но он всеми силами стал противиться тому, чтобы на сцене появлялись новые оперы, особенно произведения современных композиторов нововеймарской школы.
По возвращении в Веймар Листу, уже готовому сложить с себя полномочия придворного капельмейстера, еще удалось дать в театре «старые, добрые, проверенные временем классические оперы»: «Альцесту» Глюка (2 октября), «Севильского цирюльника» Россини (5 ноября), «Волшебную флейту» Моцарта (5 декабря)… О планировавшейся постановке вагнеровского «Риенци» теперь нечего было и думать.
Скандал разразился 15 декабря, когда состоялась премьера оперы Петера Корнелиуса «Багдадский цирюльник». На этом спектакле Лист настаивал, открыто выступив против руководства театра, не одобрявшего постановку. Враги нововеймарской школы, воспользовавшись случаем, устроили целую «демонстрацию протеста». Опера Корнелиуса была освистана с неистовством, на которое только были способны противники Листа. Именно Листа! В данном случае Корнелиус пал жертвой своей преданности листовским идеалам. В вечер того же дня Лист официально подал в отставку.
Последним концертом, которым он дирижировал, дорабатывая до конца своего контракта, стал концерт памяти Бетховена 17 декабря. В программе, кроме Седьмой симфонии, увертюры «Освящение Дома» (ор. 124) и кантаты «Морская тишь и счастливое плавание» (опус 112), стоял Пятый фортепьянный концерт Es-dur (опус 73). Солировала ученица Листа Марфа Сабинина — удивительная женщина, выдающийся музыкант и сестра милосердия, достойная того, чтобы сказать о ней несколько слов. Марфа (Марта, как ее называли в детстве и юности) Степановна Сабинина родилась в 1831 году в Копенгагене, где ее отец Степан Карпович Сабинин (1789–1863) служил настоятелем храма при посольстве Российской империи. В 1837 году Марфа переехала в Веймар, куда был переведен ее отец, ставший духовником великой герцогини Марии Павловны. С раннего детства Марфа отличалась исключительным музыкальным талантом и с самого начала пребывания Листа в Веймаре стала брать у него уроки сначала вокала, а с 1853 года — игры на фортепьяно. В 1857–1859 годах она уже успешно гастролировала. Лист считал ее одной из лучших своих учениц. Марфа пробовала себя и как композитор; известны сборники ее романсов и фортепьянных пьес, а также несколько хоровых произведений. В отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Петербурге хранятся 16 писем Листа талантливой ученице.
Интересна характеристика, данная ею в мемуарах: «Лист уже давно жил в Веймаре с княгиней Каролиной Сайн-Витгенштейн. Сначала он вел очень безнравственную жизнь, часто пил слишком много и в отношении образа жизни оставлял желать так многого, что мой отец ни под каким видом не хотел допустить его в наш дом. Против него как артиста никто бы не мог ничего найти: его удивительная техника, его игра, исполненная огня, всех восхищала и приводила в восторг. Как дирижер он отличался старанием обучить оркестр и хор: не пропускал ни малейшей ошибки и провинившегося заставлял повторять одного до тех пор, пока не окажется ни одного неверного такта, ни единой фальшивой ноты… Как фортепианный композитор он нашел себе мало приверженцев; его переложения были так новы и своеобразны в сравнении со всем тем, что до этого было написано, так трудны в техническом отношении, что очень немногие решались их играть, вследствие чего в 1850-м году он еще не был известен как композитор, и всякий считал себя вправе оспаривать его композиторский талант. Доброта его всем известна: всякий бедный артист, обращавшийся к нему за помощью, мог быть уверен, что получит ее. Само собою разумеется, что, будучи столь разнообразно одарен духовно, он стоял выше многих» [516].
О собственно педагогическом методе Листа его ученица пишет: «5-го февраля [1853 года] Лист пришел и по окончании спевки с нами заставил меня играть. Я отличалась редкой для женщины физической силой, так что безо всяких усилий могла поднять несколько пудов, и это отражалось на моей игре. Лист нашел, что я не достигаю того, чего могла бы достигнуть с моей громадной силой, если бы нежная игра у меня была более развита. С тех пор я главным образом направила свое внимание на достижение этого пробела в моей игре. Лист очень напирал на то, чтобы я продолжала развивать мой талант, и обещал заниматься со мною. Разумеется, я с благодарностью приняла его любезное предложение, получив на то разрешение родителей, и решилась всецело отдаться музыке. <…> Всё, что я слышала, и столько хорошего, всё больше возбуждало во мне желание работать на этом поприще, хотя меня сильно привлекало и рисование. <…> 30-го [ноября] я была на уроке у Листа, который терпеливо и любезно слушал и учил меня. Не надо полагать, что он был преподавателем по обыкновенному покрою: он не учил, как нужно играть, какой палец ставить, как связывать или стаккировать и т. д.; нет, он вселял дух и жизнь в сыгранную вами вещь; вот почему он принимал в число своих учеников только тех, которые уже прошли известную школу. Иногда только, признавая неудобною общепринятую последовательность пальцев, он указывал на выработанную им самим аппликату, например: трель с большим и третьим пальцем, введение большого пальца на черные клавиши и т. д., чего прежде не допускалось. Он признавал законным то, что было удобоисполнимо, и надо сознаться, что, несмотря на техническую трудность его произведений, всё лежит очень удобно для руки; а это не всегда можно сказать о других сочинителях пьес для рояля».
В 1859 году семья Сабининых переехала в Санкт-Петербург. Там Марфа стала преподавать музыку детям императора Александра II — великому князю Сергею и великой княжне Марии. Благодаря ее усилиям при активном сочувствии императрицы Марии Александровны в 1867 году было организовано Общество попечения о раненых и больных воинах, с 1879-го официально называемое Российский Красный Крест. В 1867 году Марфа Сабинина переехала в Крым, в имение Джемиет близ Ялты, принадлежавшее ее верной подруге и соратнице баронессе Марии Петровне Фредерикс (1832–1908), фрейлине императрицы Марии Александровны. Во время Франко-прусской войны по инициативе императрицы подруги выезжали в Германию и Францию для изучения деятельности местного Красного Креста, а по возвращении опубликовали книгу «Путевые заметки двух сестер Красного Креста во время поездки за границу осенью 1870 г.» (СПб., 1871), обобщавшую опыт работы полевых лазаретов во время военных действий. Они на собственные средства построили в Джемиете Благовещенский храм (освящен в мае 1876 года) и открыли при нем бесплатную больницу — Благовещенскую общину сестер милосердия. Во время Русско-турецкой войны (1877–1878) Марфа на фронте работала в лазарете и помогала организовывать эвакуацию раненых, а по возвращении основала в Джемиете православный приход. В ночь на 9 июля 1882 года мать и четыре сестры Марфы были зверски убиты грабителями. Ужас пережитой трагедии усугублялся тем, что во время суда на присяжных оказали воздействие набиравшие силу либеральные идеи, на которых адвокаты строили свою защиту; в итоге несколько убийц были отпущены вообще без наказания. При этом «определение суда вызвало громкие аплодисменты присутствовавшей публики»! Марфа, будучи глубоко верующей, не ожесточилась от вопиющей несправедливости, но не могла оставаться в месте, связанном с тяжелейшими воспоминаниями, и переехала в крымский городок Кастрополь. Там и были написаны ее воспоминания. В 1892 году, незадолго до смерти, Марфа Сабинина переехала в Ялту. Могила ее не сохранилась…
Январь 1859 года был омрачен для Листа первой ссорой с Вагнером. Вагнер жил тогда в Венеции и работал над «Тристаном и Изольдой». Деньги таяли, а надежд на получение гонораров в ближайшем будущем не было. Лист же находился в очень тяжелом душевном состоянии вследствие интриг, уже превратившихся в откровенную травлю. Вагнер, не привыкший брать во внимание чужие чувства, обратился к Листу с очередной просьбой: поставить в Веймаре «хотя бы „Риенци“». Выполнить ее, с учетом состояния дел в веймарском придворном театре, ухода Листа в отставку и «диктатуры», не удалось. Вагнер же, получив отказ, не нашел ничего лучше, как обвинить Листа… «в равнодушии, порожденном безоблачным счастьем»! Естественно, Лист, собравшийся было в ответ на присылку Вагнером первого акта «Тристана» отправить ему партитуры «Данте-симфонии» и «Эстергомской мессы», был глубоко оскорблен. Его письмо дышит горечью: «Поскольку моя симфония и месса всё равно не могут заменить тебе хрустящие банкноты, с моей стороны было бы излишним посылать их тебе. Но отныне я считаю также излишним получать от тебя торопящие меня телеграммы и оскорбительные письма»[517].
Несколько бывших друзей Листа к тому времени уже перешли в стан его врагов, хотя с его стороны видели лишь добро. Но в случае с Вагнером он испытал особенно сильную боль. Вот как описывает его реакцию на неблагодарность друга непосредственная свидетельница событий Марфа Сабинина: «Он [Вагнер] употребил мелочную месть и написал Бюлову письмо, в котором неделикатно коснулся отношения Листа к княгине Витгенштейн. Прочитав это письмо, Лист нашел поведение Вагнера непростительным и с тех пор больше не писал ему. „Но всё нужно переносить, — прибавил Лист, — нам остается музыка: это что-то бесконечно прекрасное, это — ни слово, ни дело, что-то невыразимое, которое может сравниться только с любовью и может быть еще выше ее“».
Листу было тяжело расставаться с выстраданными мечтами о театральной реформе, которой он отдал столько сил. Но тучи сгущались не только в Веймаре. 14 января в Берлине скандалом закончился концерт, на котором Ганс фон Бюлов дирижировал симфонической поэмой «Идеалы». Публика освистала произведение Листа. Весть об этом — очередном! — провале быстро достигла Веймара. Лист чувствовал себя неприкаянным, ему казалось, что, даже покинув Веймар, он нигде не найдет себе приюта…
Марта Сабинина записала: «6-го февраля. На музыкальном утре Листа тяжелое чувство соединяло присутствовавших: все сознавали, что кончается золотая эпоха Веймара. Лист смотрел на всё как-то равнодушно, в нем не было уже того оживления, того увлечения, которые характеризовали Веймарский музыкальный мир. <…> Лист отказался от Веймарского театра; он был огорчен и, казалось, не так скоро возьмет в руки капельмейстерский жезл…»
И всё же Лист не сдался. В конце февраля он выехал… в Берлин! «Я написал в паспорте: цель моей поездки — быть освистанным»[518]. 27 февраля он снова «взял в руки капельмейстерский жезл» — «Идеалы» были повторены перед берлинской публикой. На этот раз победу одержал Лист — концерт закончился овацией.
Вернувшись «со щитом» в Веймар, Лист, не задерживаясь надолго, отправился вместе с Каролиной и княжной Марией в Мюнхен. Здесь в марте 1859 года состоялось знакомство Марии с ее будущим мужем, князем Константином цу Гогенлоэ-Шиллингсфюрстом (zu Hohenlohe-Schillingsf?rst, 1828–1896), обладавшим многочисленными талантами. В 1848 году он поступил в австрийскую армию; венцом его военной службы стал чин генерала от кавалерии (1884). Не менее успешно складывалась и карьера князя при дворе: в 1859 году он стал флигель-адъютантом императора Франца Иосифа I, в 1865-м — гофмаршалом, а в июле 1866 года занял должность первого обер-гофмейстера Венского двора. Еще до этих назначений князь Гогенлоэ-Шиллингсфюрст показал себя знатоком и покровителем наук и искусств. За два года до описываемых событий во время расширения и реконструкции главной улицы Вены Рингштрассе (Ringstra?e) он по поручению императора руководил строительством зданий Венской придворной оперы, Бургтеатра[519], а также Музея истории искусств (Kunsthistorischen Museum) и Музея естествознания (Naturhistorischen Museum). Кроме того, он являлся главным куратором Придворной капеллы, а с 1870 года — почетным членом венского Общества любителей музыки (Gesellschaft der Musikfreunde). В 1873 году князь также стал курировать Академию изобразительных искусств Вены (Akademie der Bildenden K?nste Wien) и Австрийский музей искусства и промышленности (?sterreichischen Museums f?r Kunst und Industrie). Тогда же он принял участие в подготовке Всемирной выставки, которая проходила на территории парка Пратер. Впоследствии один из холмов Пратера был назван в его честь (Der Konstantinh?gel). В 1874 году Антон Брукнер посвятил князю Константину симфонию Es-dur, названную им «Романтической»…
Все эти достижения были у князя впереди. Ныне же молодые люди встретились и полюбили друг друга, можно сказать, с первого взгляда. Лист понял, что предстоит подготовка к еще одной свадьбе.
Несмотря ни на что, жизнь продолжалась. Лист вновь ощутил желание творить. Он заново переработал и инструментовал написанный им в 1853 году «Приветственный марш» в честь великого герцога Карла Александра. Он словно хотел повернуть время вспять, возвратиться в те годы, когда в его душе была жива надежда на Веймар. 9 апреля Лист уже дирижировал в веймарском придворном театре второй редакцией «Приветственного марша».
А вскоре в Веймар пришло известие: 10 апреля Франц Иосиф подписал указ о награждении композитора австрийским орденом Железной короны 3-й степени. Эта награда предполагала возведение ее обладателя в дворянское достоинство, о чем Лист был официально уведомлен специальным указом от 30 октября. «Что ты думаешь об идее носить мне отныне фамилию фон Райдинг?»[520] — спрашивал Лист Каролину Витгенштейн. Княгиня, однако, не разделяла его энтузиазма, ясно видя опасность в заигрывании с высшим светом, и справедливо опасалась появления различных издевательских пасквилей от многочисленной армии его недоброжелателей. «Фамилии с „фон“ и „де“, в их истинном смысле, указывают на обладание собственностью, завоеванной мечом. Последующие поколения с помощью „фон“ и „де“ лишь закрепляют принцип наследственности как таковой. Я не вижу смысла в принятии приставки „фон“ совершенно вне ее первоначального смысла… Мне не хотелось бы видеть в этом проявление тщеславия, которое недостойно Вас»[521].
Как уже было сказано, Лист так никогда и не стал дворянином «в первоначальном смысле» этого слова. Но удовлетворение от признания его заслуг венценосными особами он, находившийся в атмосфере повсеместной травли и клеветы, всё же получил.
По-настоящему его поддерживала в этот тяжелый период только вера. Лист вновь и вновь возвращался к замыслам духовных сочинений, к планам реформирования церковной музыки. Дело в том, что начиная со второй половины XVIII века наблюдались явные «романтизация» и симфонизация церковных жанров. Григорианский хорал композиторами уже практически не использовался, утрачивалась изначальная богослужебная функция церковной музыки, то есть многие духовные произведения «вышли за пределы Церкви» и стали восприниматься самостоятельными концертными композициями. Лист стремился вернуть церковной музыке сакральность. В его понимании композитор, обращающийся к церковным жанрам, должен быть в первую очередь проповедником; его музыка должна обладать мощной силой, по его собственным словам, «объединяющей театр и храм». Не выводить церковную музыку с амвона на эстраду, но эстраду по возможности сделать подобием амвона! Характерно, что, неуклонно следуя по этому пути, Лист пришел в итоге в своих поздних духовных сочинениях к возрождению традиций григорианского хорала и полифонии эпохи Джованни да Палестрины (da Palestrina; 1525 или 1526–1594).
Он одновременно работал — вдохновенно, с полным самоотречением — над ораториями «Легенда о святой Елизавете» и «Христос». Марфа Сабинина вспоминала: «17 мая… Лист мне сказал, что он окончил сочинение „Нагорной проповеди“ и что он хочет мне ее сыграть. „Два года я ношу эту мысль в себе и никак не мог ее выполнить. Наконец, недавно по отъезде княгини я себе сказал, что теперь я этим займусь, сел и написал, как вы ее теперь видите“. Он сыграл и пропел мне свое новое сочинение, которое произвело на меня глубокое впечатление; он был совсем бледен, когда закончил, и сказал: „В этой вещи лежит вся моя душа. (Darin liegt meine games Innere). В 10-м стихе самый высокий полет, потому что Царствие Небесное их. Я долго думал прибавить 11-й стих ради одного слова, которое так хорошо звучит, но я оставил эту мысль: пусть оно окончится с Царствием Небесным. Я выразил блаженства только одним голосом: несколько голосов не могут этого передать, так как через одного только человека — Иисуса Христа — мы получили спасение. Мое призвание писать для церкви лежит во мне. В моей св[ятой] Елисавете вы тоже найдете подобное настроение, но также и светские чувства, которые вам понравятся“. <…> На стене висела гравюра, изображавшая св[ятого] Франциска, под нею напечатанные слова С. А. Рачинского[522], к которым я написала музыку. Указывая на это, Лист сказал мне: „Вот ваш святой Франциск всегда передо мною“. — „Мне бы хотелось его переработать“, — сказала я ему. „Да, — заметил он, — сделайте его проще. Это самое трудное — писать просто, не сокращая при этом своей мысли. Я много писал, пока мало-помалу не достиг этого. Я знаю, что над моими сочинениями смеются; но и я могу над ними смеяться“. Далее я заметила, что, по-моему, теперешний протестантский церковный стиль отклонился от начертанного правильного пути, начатого, главным образом, Бахом. Лист отвечал, что церковная музыка Мендельсона ему нравится, хотя, по правде сказать, она слишком мещанская, т. к. она не поднимается выше обыкновенных понятий. „Мне как католику очень трудно писать в протестантской земле; а то бы я больше писал для Церкви, потому что католик скорее чувствует, в чем недостаток. Но если бы я вздумал здесь высказать свое мнение, мне бы сказали: что он нам толкует о церковном пении, он, который только пьет шампанское!“ Известно, что, будучи молодым человеком, Лист очень любил шампанское; но после, в сороковых годах, он бросил эту привычку, и, когда требовалось пить за чье-нибудь здоровье, он только дотрагивался до рюмки».
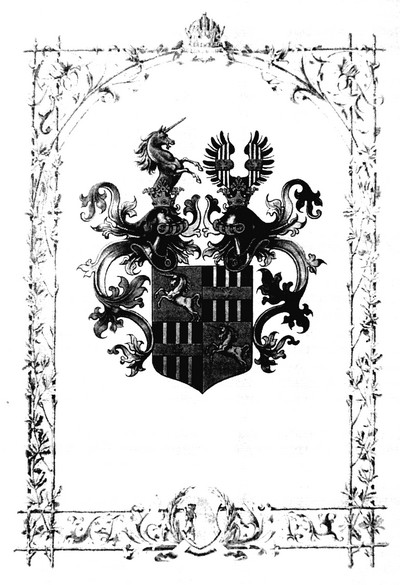
Герб «рыцаря фон Листа»

Королевский указ о передаче дворянского титула Эдуарду Листу
Как видим, тянувшаяся за Листом слава модного салонного виртуоза по-прежнему отравляла ему жизнь похуже несправедливых критиков: если в состязании с ними еще можно было склонить чашу весов в его сторону, то пресловутое «шампанское» изжить гораздо труднее…
Уйдя с поста придворного капельмейстера, Лист всё же окончательно не отказался от капельмейстерской деятельности. Так, он принял участие в концертах в Эрфурте, посвященных столетию смерти Генделя. Под управлением Листа прозвучали генделевские оратории: 20 мая — «Иуда Маккавей», а на следующий день — «Мессия». Лист-дирижер теперь явно предпочитал жанр оратории.
Из «духовного» Эрфурта Лист переехал в «светский» Лейпциг на организованное Бренделем празднование четвертьвекового юбилея журнала «Нойе Цайтшрифт фюр Музик». Отдавая дань основателю журнала Роберту Шуману, Лист дирижировал 31 мая его оперой «Геновева», но далее брала реванш нововеймарская эстетика: 1 июня прозвучали фрагменты из «Тристана и Изольды» Вагнера и симфоническая поэма «Тассо» самого Листа, а 2 июня он представил Лейпцигу «Эстергомскую мессу». Успех был полным, «Тассо» даже пришлось повторить.
Вдохновленный и растроганный Лист под впечатлением от картины Эдуарда Бендемана[523] «На реках вавилонских», виденной им на обратном пути в Веймар, написал «137-й псалом „На реках вавилонских“» (Der 137. Psalm «An den Wassern zu Babylon»). Содержание псалма — насмешки врагов над священными песнями, тоска о потерянной родине, скорбь христианина по поводу своих грехов — вполне можно соотнести и с его собственными переживаниями…
Вскоре порвалась последняя ниточка, связывавшая Листа с Веймаром: 23 июня скончалась великая герцогиня Мария Павловна, его добрый друг и покровительница, с помощью которой он надеялся не только обрести семейное счастье, но и осуществить многие творческие мечты. «С этим гробом похоронен старый Веймар»[524], — с горечью произнес Лист на похоронах.
1859 год можно назвать роковым для Листа. Вскоре его постиг новый удар, последствия которого он переживал до конца своих дней. В июле в Париже вышло (на французском языке) первое издание его печально знаменитой книги «Цыгане и их музыка в Венгрии» (Des Boh?miens et de leur en Hongrie). Уже к началу августа книга попала в Венгрию. Рассуждения Листа упрощенно можно свести к тезису, что национальная венгерская музыка происходит от цыганской, в свою очередь берущей истоки в Индии. Венгерский музыковед Клара Хамбургер считает: «Книга о цыганской традиции в венгерской музыке оказала роковое влияние на отношения Листа и общественности страны. Если первое издание книги поссорило Листа с венгерскими националистами, то второе (1881 года. — М. З.) стало причиной общественного порицания со стороны части либеральных европейских мыслителей и омрачило последние годы жизни великого венгерского композитора»[525].
К созданию книги о цыганской музыке Лист шел долго. Еще в 1847 году он собирался опубликовать у Хаслингера свои «Венгерские рапсодии» и просил Каролину Витгенштейн снабдить это издание небольшим эссе. Эссе Каролины разрослось до объемов самостоятельного произведения. Оно-то и послужило основой для книги Листа.
Мы уже говорили, что литературное наследие Листа являет собой сложный конгломерат его собственных мыслей о музыке, личных переживаний со стилистикой и мировоззрением соавтора (в данном случае — Каролины Витгенштейн). Можно уверенно констатировать, что профессиональные музыковедческие рассуждения и впечатления от посещения различных стран, бесспорно, принадлежат Листу, а композиция, стиль и мировоззренческий настрой книги носят отпечаток личности княгини Каролины.
Клара Хамбургер объясняет причины ошибочной трактовки истоков национальной музыки: «Лист не был филологом — он был художником-романтиком, открытым и толерантным европейцем. В его представлении… цыгане воплощали неукротимую волю к свободе. Цыганских музыкантов он называл „любезными коллегами“; себя самого считал „наполовину францисканцем, наполовину цыганом“ и „первым цыганом Венгерского королевства“. Он желал быть их „песнопевцем“, „воссоздавая“ в „Венгерских рапсодиях“ мелодии, которые считал фрагментами утраченного древнего цыганского эпоса. Он заблуждался сразу по нескольким пунктам, поскольку эти якобы народные венгерские песни исполнялись цыганами максимум несколько десятилетий, носили в себе глубокие следы цыганской манеры исполнения, но не были ни цыганскими, ни народными, ни древними. Композитору даже в голову не приходило, что своей книгой он шокирует венгерское общественное мнение… В Венгрии книга появилась… как раз между 1849 и 1867 гг., в период жесточайшей реакции. <…> Лист представил общественности свою ошибочную теорию в тот момент, когда под запретом находился не только язык как символ венгерского самосознания, но зачастую и народный костюм. Именно поэтому венгерские народные песни и танцы в исполнении цыган стали на тот момент главным выражением венгерского национального самосознания — ведь в таком виде они не подлежали цензуре».
Неудивительно, что реакция на труд Листа последовала незамедлительно. 11 августа журнал «Мадьяр Шайто» (Magyar Sajt? — «Венгерская печать») писал: «Господин Лист вымыслил, что музыка цыган, везде являющаяся подражанием, в Венгрии — оригинальна. Уже хотят отсудить у нас и нашу музыку? Дело во всяком случае стоит того, чтобы о нем высказались специалисты. Надеемся, что так и случится… Если бы господин артист, в момент наивысшего энтузиазма опоясанный нашими старшими братьями венгерской саблей, соизволил бы больше времени проводить на своей родине и во время своих развлечений тут и там вместо отравленного воздуха салонов не счел опасной для своих легких атмосферу несколько ниже лежащих слоев, он смог бы познакомиться с тайной рождения венгерской народной песни, которая представляет сущность настоящей венгерской музыки. Если бы господин Лист сам черпал свои знания из единственного надежного источника, а не из вторых и третьих рук, он уберег бы себя от этого смешного утверждения, а нас — от горького чувства возмущения»[526].
И это было только начало! Теперь уже не гнушались открыто ставить под сомнение и композиторский талант Листа, «поскольку свои тяжеловесные вариации на тему известных произведений, а также гимн, написанный на торжества в честь открытия Эстергомского собора, он и сам вряд ли считает выдающимися произведениями»[527].
И такое говорилось и писалось на его родине! Тамошние ядовитые стрелы ранили всего больнее. Правда, голоса тех, кто осмелился выступить в защиту Листа, были хотя и единичны, но гораздо более авторитетны, чем его критиков. Так, композитор, пианист и видный музыкальный деятель граф Иштван Фаи (F?y; 1809–1862), давний знакомый Листа, писал в номере «Вашарнапи Уйшаг» (Vas?rnapi ?js?g — «Воскресные новости») за 25 сентября: «Не будем говорить оскорбительных слов о его патриотизме, ибо он возложил на алтарь родины немало жертв и всегда был ее патриотом, пусть не словом, но делом. Нация может гордиться им. Сделанные им заключения стали, скорее всего, результатом поспешности»[528].
Позднее еще более откровенно высказался Михай Мошоньи в основанной им совместно с давним другом Листа Корнелем Абраньи[529] музыкальной газете «Зенэсети Лапок» (Zen?szeti Lapok — «Музыкальные листки»): он признался, что сменил свою немецкую фамилию Бранд на венгерскую Мошоньи, вдохновившись именно книгой Листа[530].
Но одинокие голоса в защиту Листа тонули в море озлобленной критики. Лист откровенно не понимал, чем он мог обидеть соотечественников. Он с детства был убежден, что цыганская музыка является подлинным венгерским фольклором; тогда же он ее искренне и навсегда полюбил. В то время многочисленные цыганские ансамбли называли венгерскими по всей Европе. Лист просто осмелился высказать вслух заблуждение, в котором пребывали многие, и это заблуждение тут же стали приписывать ему одному.
Пожалуй, самым весомым и объективным словом в защиту Листа стал доклад Белы Бартока «Проблемы Листа», прочитанный в Венгерской академии наук 3 февраля 1936 года, почти через полвека после смерти гениального земляка: «Мы лишь частично можем предъявить Ференцу Листу обвинение в связи с его ложными выводами; из всего того, что он имел возможность видеть и слышать, он вряд ли мог сделать иное заключение, чем то, которое вытекает из его книги. Более того, как раз напротив, та смелость, с которой он высказывает свое добросовестное, хотя и ошибочное мнение, вызывает уважение»[531].
Стоит обратить особое внимание на один чрезвычайно важный вывод Бартока, во многом объясняющий недооцененность творчества Листа, которая к началу 1860-х годов начинала всё острее ощущаться им: «…широкая публика не может уловить сущности музыкальных произведений, она легче воспринимает их внешние стороны». По его мнению, произведения Листа важнее вагнеровских — не потому, что более совершенны, а потому, что «Вагнер полностью использует и развивает все введенные в них новые возможности, а многочисленные начинания, встречающиеся у Листа, были развиты не им самим, а его последователями»[532].
Сам Лист, словно ставя точку в болезненном вопросе, 14 января 1860 года писал Анталу Аугусу: «Патриотизм, без сомнения, великое и достойное восхищения чувство, однако излишняя пылкость его проявления стирает необходимые границы, а единственным его двигателем становится лихорадочное раздражение; случается, что устраивают и бурю в стакане воды. <…> Я, однако же, твердо убежден в своей способности выполнить свое предназначение и буду постоянно стремиться к прославлению родины… трудами на поприще художника. Возможно, не совсем так, как предполагают некоторые патриоты, для которых „Марш Ракоци“ означает примерно то же, что Коран для халифа Омара; возможно, не совсем так, как те, кто с удовольствием сожгли бы — как Омар Александрийскую библиотеку — всю немецкую музыку под тем чудесным предлогом, что она или не представлена в „Марше Ракоци“, или не стоит ничего. Возможно, не совсем так, но тем не менее я привязан к Венгрии. Позвольте еще заметить Вам, что шум, поднятый вокруг моего труда о цыганах, натолкнул меня на мысль о том, что я еще больший венгр, чем мои оппоненты, маниакально настроенные венгры, ибо одной из характерных черт нашего национального характера всегда была лояльность»[533].
Книга Листа «Цыгане и их музыка в Венгрии» оказалась для автора миной замедленного действия. Осенью 1881 года в Лейпциге вышло, снова на французском языке, ее второе переработанное издание, вызвавшее не меньшую бурю, чем первое. К тому времени акценты значительно сместились: если первое издание сочли оскорблением венгерской нации, то второе — свидетельством листовского антисемитизма. По мнению К. Хамбургер, Каролина Витгенштейн, фактически приписав Листу собственные убеждения, «нагородила ужасной чепухи о венграх и цыганах и до неузнаваемости исказила венгерские имена и географические названия. В качестве отрицательной „противоположности“ свободолюбивым цыганам одну седьмую часть книги она посвятила „другому“ народу без родины — иудеям, что не имело никакого отношения к основной теме (не будем забывать: по изначальному замыслу Листа этот текст должен был служить предисловием к „Венгерским рапсодиям“!). Среди прочего княгиня развила мысль о том, что евреи не обладают творческими способностями… Неспособный к творчеству злобный еврей из первого издания несчастной „цыганской книги“ в новом ее варианте стал настоящим воплощением ненависти, причиной всех бед общества: как тот, в чьих руках сосредоточились деньги, пресса и власть, и, наоборот, как подрывной, либеральный, социалистический элемент».
Глава «Дети Израиля» была настолько расширена в издании 1881 года, что сразу привлекла к себе внимание. Вот образчик очередной волны критики, обрушившейся на Листа: «…один из гнуснейших памфлетов антисемитского содержания за последние десятилетия… Остается только удивляться, когда слышишь заявления, продиктованные средневековой религиозной ненавистью и нетерпимостью фанатика от знаменитого исполнителя, объехавшего весь мир… ведь на титульном листе стоит его, именно его имя. <…> Или же вы тем самым хотели оказать любезность уже увядшей, но всё еще интересной особе? <…> Сочинительский талант его расцветал лишь тогда, когда он обрабатывал чужие мысли. <…> Хорошо жить в эпоху, когда каждый может заниматься сочинением музыки, как ему вздумается, никакие запреты не действуют, квинты и кварты можно расставлять как душе угодно. Всё разрешено — в любом темпе можно модулировать хоть четыре раза. Кроме программной музыки уже ничего и не существует»[534].
По мнению хулителей Листа, он за прошедшие годы не только не изменил свою ошибочную точку зрения на происхождение венгерской музыки, но и усугубил свою вину перед одной нацией столь же весомой виной перед другой. Однако в 1996 году, через 110 лет после смерти Листа, было доказано, что он даже не видел рукопись второго издания![535]
При этом Лист никогда не упрекал Каролину в подрыве его авторитета. К. Хамбургер замечает: «9 февраля 1882 г. Лист вежливо сообщает Каролине о своем прибытии в Будапешт и посылает в Рим брошюру… направленную против „отдельных пассажей из нашей книги“ (contre certains passages de notre livre), a также учтиво интересуется, стоит ли на нее отвечать. Далее Лист пишет: „Если я это сделаю, то не буду упоминать никого. Око за око, зуб за зуб — это правило противоречит Евангелию. Мы же преданы Христу сердцем и душой! Жду Вашего ответа, что мне выбрать: молчание или протест против враждебных и низких намерений, в наличии которых меня столь несправедливо обвиняют. Они совершенно противны моей природе и духовным привычкам!“».
Лист всё же сделал попытку оправдаться, правда, вновь не раскрывая имя истинного автора скандальной главы, полностью беря грех на себя. 6 февраля 1883 года он написал открытое письмо главному редактору франкоязычного издания «Газетт де Онгри» (Gazette de Hongrie — «Венгерский вестник») Амаде Сесси (Saissy; 1844–1901):
«Господин редактор! Направляю Вам эти строки с некоторым чувством сожаления, но раз уж с некоторых пор обо мне говорят как о якобы противнике евреев, я чувствую себя обязанным исправить этот ложный слух как основанный на заблуждении. Всем известно, что в мире музыки я имею возможность наслаждаться дружбой со многими талантливыми детьми Израиля, и в первую очередь с Мейербером; в литературных кругах подобные чувства по отношению ко мне испытывали Гейне и многие другие. Мне представляется лишним подробно перечислять, сколько раз я оказывал горячую поддержку талантливым выходцам из еврейской среды за все 50 лет своей творческой деятельности; позволю себе напомнить, что во многих странах я неоднократно содействовал увеличению числа благотворительных еврейских организаций и их процветанию исключительно по доброй воле. „Милосердие“ — девиз моего небесного покровителя, святого Франциска из Паолы, ему я буду следовать до самой смерти. Есть те, кто глумится надо мной, выдергивая отдельные фразы из моей книги „Цыгане в Венгрии“. Со спокойной совестью могу заверить тех, кто на меня нападает, что числю себя виновным лишь в том, что слегка затронул идею „иерусалимского королевства“, которую, задолго до меня, обстоятельно изложили трое выдающихся сынов племени Израилева — лорд Биконсфилд, Джордж Элиот и Адольф Кремье[536]. Примите, господин редактор, искренние заверения в глубочайшем уважении.
Ференц Лист»[537].
Это письмо было сразу переведено на немецкий язык и опубликовано в «Альгемайне дойче Музикцайтунг», а также вышло в венгерском переводе в газете «Едетертеш» (Egyet?rt?s — «Согласие»)[538].
Но вот еще один весьма характерный штрих. В том же 1883 году при издании четвертого тома Полного собрания сочинений Листа Лина Раман перевела книгу «Цыгане и их музыка в Венгрии» на немецкий язык, причем по изданию 1881 года. Она решила купировать главу о евреях, но предварительно посоветоваться с самим автором. Лист ответил, что ему «всё это противно», и добавил: «Я это вынесу — не будем убирать ни слова, ни запятой… Мне тут каждое слово знакомо, всё я написал и одобрил — посмотри, что на титульном листе. Мое имя там не случайно появилось»[539].
Что же до возможности внести коррективы в свои взгляды на происхождение цыганской музыки, то и тут Лист, по словам Раман, «стоял на своем и упрямо отказывался прислушиваться к советам, гневно заявляя, что теория принадлежит ему лично и он в ней уверен»[540].
Увы, эту чашу Листу пришлось испить до дна. Книга «Цыгане и их музыка в Венгрии» даже стала главным препятствием для захоронения праха Листа на родине. К. Хамбургер пишет: «После смерти композитора… в Байройте из Венгрии не поступило официального предложения похоронить Листа на родине. По этой причине погребение состоялось в городе, где жил Вагнер, и от Министерства культуры на похороны приехали всего двое: композитор Эден фон Михалович и вице-президент Музыкальной академии Янош Вег. Общество венгерских писателей и художников при поддержке кардинала Лайоша Хайнальда[541], друга композитора, обратилось в парламент с ходатайством о перезахоронении праха Листа на родине, однако депутаты не поддержали эту идею. Премьер-министр Кальман Тиса, сторонник политики угнетения национальных меньшинств, заявил: „Ференц Лист действительно распространял то, что мы считаем венгерской музыкой, но когда у венгров, кроме венгерской музыки, уже ничего не оставалось, он раззвонил по всему свету, будто музыка эта вовсе не венгерская, а цыганская“. А на возражение одного из левых депутатов ответил: „Да я сам недавно видел брошюру, где он это написал“. Слова премьера встретили одобрение среди депутатов».
Лист не мог даже предполагать подобных последствий. Но в 1859 году ему оставалось лишь смириться и продолжать жить дальше.
На 15 октября было назначено бракосочетание дочери Каролины. Марфа Сабинина вспоминала: «14-го октября. Кружок почитателей молодой княжны Марии Витгенштейн перед отъездом ее из Веймара поднес ей (через меня) на память большой альбом со стихами, рисунками и музыкальными сочинениями. Это было накануне ее свадьбы с князем Константином Гогенлоэ, и она совсем переезжала на жительство в Вену. Об отъезде ее искренне сожалели все, ее знавшие; на собраниях княгини Витгенштейн она была поэтична, как цветок, и вокруг нее группировались все любители изящного и цивилизации. 15-го октября свадьба ее состоялась в католической церкви. Она страстно любила свою мать и Листа, и ей стоила горьких слез разлука с этим очагом ее юности».
После отъезда княжны Альтенбург погрузился в гнетущую тишину. Лист словно предчувствовал беду, еще более страшную, чем предыдущие.
До него доходили тревожные известия из Берлина, куда в августе приехал из Вены его Даниель, чтобы провести каникулы с Козимой и Гансом фон Бюловом. Уже тогда он чувствовал недомогание. Козима окружила брата материнской заботой, и все надеялись, что его болезнь — всего лишь простуда, которая скоро пройдет. Однако время шло, а Даниелю становилось всё хуже. Однажды, проснувшись, он начал кашлять и обнаружил на носовом платке кровь…
К началу учебного года Даниель уже чувствовал себя настолько плохо, что не смог вернуться в Вену. Всю осень Козима и Ганс самоотверженно ухаживали за больным, приглашали докторов, но диагноз — туберкулез — не оставлял шансов. К началу зимы стало понятно, что Даниель угасает. 11 декабря в десять часов вечера Лист прибыл в Берлин и остановился в отеле «Бранденбург» (Brandenburg Hotel). Ранним утром следующего дня он уже сидел у постели сына; они провели вместе весь день. В отель Лист вернулся только к полуночи. 13 декабря он снова с утра был в доме четы фон Бюлов. Поздним вечером, уже собираясь уходить, Лист вместе с Козимой заглянул в комнату Даниеля, который, казалось, наконец-то спокойно уснул. К тому времени он действительно уже не страдал…
Пятнадцатого декабря Даниель Лист был похоронен на берлинском католическом кладбище прихода Святой Ядвиги (находится по адресу: Лизенштрассе (Liesenstra?e), дом 8). На следующий день после печального ритуала Ференц писал своей матери: «Дражайшая матушка… Наш дорогой сын, Даниель, больше уже не будет радостью нашей жизни. Он перестал дышать; его сердце больше не бьется. Наши глаза, мокрые от слез, больше никогда не увидят его! Но не позволяйте горю сломить Вас, дражайшая матушка. У Вас еще есть сын, нежность которого постарается заменить Вам того, кого Вы потеряли…»[542]
Вернувшись в Веймар, Лист долго не мог прийти в себя. «Я мало рассказывал Вам о своем сыне, — писал Лист верному другу Анталу Аугусу 14 января 1860 года. — Это была мечтательная, нежная, глубокая натура. Влечения его сердца как бы возвышали его над всем земным, и он унаследовал от меня склонность к тому образу мыслей и чувств, который непрестанно приближает нас к Божественному милосердию. Желание вступить в какой-либо орден всё больше и больше укреплялось в его душе. Я хотел только, чтобы, перед тем как воплотить это святое решение, он прошел бы полный и серьезный курс наук. Окончив его в учебном заведении в Париже с наградой[543], он готовился к сдаче [выпускных] экзаменов по юриспруденции в Вене. Я не сомневаюсь, что и их он также выдержал бы с честью. Еще за день до смерти он говорил мне об этом и пытался объяснить мне главу в „Своде законов“, рассматривающую всякого рода обязательства. Несколько ранее ему доставляло радость продекламировать мне наизусть несколько стихотворных строк по-венгерски; он хотел продемонстрировать, что сдержал данное мне обещание еще до окончания курса юриспруденции хорошо выучить этот язык…»[544]
Лишь к концу февраля к Листу мало-помалу начали возвращаться жизненные силы. Он отправился в Вену, где 26 февраля присутствовал на концерте, в котором исполнялся его «Прометей». Но враги не дремали: клака освистала «Прометея», концерт завершился провалом. К неприятию своей музыки Лист уже начал привыкать.
Словно в компенсацию за пережитые беды из Российской империи пришло долгожданное известие: брак Каролины Витгенштейн признан недействительным.
«…Каролина Ивановская, молодая девушка католического вероисповедания и благородного происхождения, достигнув возраста семнадцати лет, была подвергнута запугиванию и воздействию серьезных угроз со стороны ее отца, что было доказано с помощью свидетелей, принимавших участие 26 апреля 1836 года в церемонии ее бракосочетания с князем Николаем Витгенштейном, адептом секты Кальвина, и поклявшихся в правдивости своих показаний. После смерти своего отца, не опасаясь больше, что он может лишить ее наследства, она подала в 1848 году запрос в Ординариат Львова для того, чтобы получить постановление о признании недействительным вышеупомянутый брачный союз по причинам совершения его путем насилия и угроз. <…> Князь Николай Витгенштейн, последователь секты Кальвина, женился вторично в 1857 году на девушке, принадлежащей к Греко-Российской церкви. На основании этих доводов вышеназванный брачный союз Каролины Ивановской единогласно признан аннулированным и недействительным»[545]. Церковное постановление, подписанное лично архиепископом Могилёвским и митрополитом всех римско-католических церквей Российской империи Вацлавом Жилиньским, датировано 7 марта (24 февраля) 1860 года.
Фактически на основании этого документа Каролина получала возможность заключения нового брака в лоне Католической церкви. Вот только ее и Листа радость вновь оказалась преждевременной. Епископ Фульдский Кристоф Флорентиус Кётт (K?tt; 1801–1873), в диоцез (епархию) которого входил Веймар, усомнился в подлинности представленных доказательств и отказался признать законным решение о расторжении брака четы Витгенштейн, а тем более обвенчать Листа и Каролину. Ей после нескольких безрезультатных переговоров ничего другого не оставалось, как ехать в Рим, чтобы получить разрешение на брак с Листом у Священной конгрегации обрядов[546] или даже у самого папы.
Семнадцатого мая Каролина покинула Веймар и через неделю прибыла в Вечный город. Первым человеком, к помощи которого она прибегла в Риме, был епископ Эдессы, Великий элемозинарий (официальный раздатчик папской милостыни) Густав Адольф цу Гогенлоэ-Шиллингсфюрст (1823–1896). (В большинстве биографий Листа этот человек фигурирует как «кардинал Гогенлоэ», однако так титуловать его можно лишь после 22 июня 1866 года, когда он был возведен в кардинальское достоинство.)
Сначала Каролине казалось, что само Небо послало ей монсеньора Гогенлоэ. Она была уверена в помощи родственника (старшего брата ее зятя, князя Константина), чья компетентность в каноническом праве была общеизвестна. Густав радушно встретил Каролину, пригласил ее принять участие в утренней мессе в его часовне в Ватикане, провел в личные покои, показал свою обширнейшую библиотеку. Каролина встречалась с ним практически ежедневно, выслушивала его наставления перед аудиенцией у папы; они даже выезжали вместе в Тиволи, где Каролина любовалась знаменитыми фонтанами виллы д’Эсте.
Каролина не догадывалась, что чуть ли не каждый ее разговор с монсеньором Гогенлоэ в подробностях передавался в Вену князю Константину и Марии. В бракоразводном процессе Густав цу Гогенлоэ-Шиллингсфюрст был полон решимости отстаивать в первую очередь интересы брата, опасавшегося, что признание недействительным брака родителей его жены автоматически повлечет за собой объявление ее незаконнорожденной и расторжение его собственного брачного контракта.
Одновременно монсеньор Гогенлоэ вступил в переписку с Листом, остававшимся в Веймаре. Он настойчиво приглашал композитора приехать в Рим. Идея реформы церковной музыки, вынашиваемая Листом, нашла в лице папского элемозинария горячего сторонника. Возможно, как раз под влиянием рисуемых им перспектив Лист серьезно задумался о смене места жительства. Рим всё больше привлекал его. К середине лета ему уже казалось, что не более чем через год он сможет представить папе всеобъемлющий проект музыкальной реформы.
Так кем же был монсеньор Гогенлоэ для Листа и Каролины — тщательно замаскированным врагом или другом?..
Совершенно неожиданно злобная критика сменилась признанием заслуг Листа на его второй родине — во Франции: 25 августа 1860 года Наполеон III наградил музыканта орденом Почетного легиона.
Но ни перспективы реформирования церковной музыки в Риме, ни награды не могли помочь Листу справиться с депрессией, одолевавшей его с момента отъезда Каролины в Рим. Одиночество, усугубляемое воспоминаниями о сыне, порождало мысли о смерти. В память о Даниеле Лист написал на стихи аббата Ламенне траурную оду «Мертвые. Ода Ф. Листа для большого оркестра (и мужского хора по желанию)» — Les Morts. Oraison par F. Liszt pour grand orchestre (et choeur d’hommes ad lib). Сам мужской хор ad libitum Лист добавил лишь в 1866 году; тогда же был завершен и весь цикл «Три траурные оды» (Trois Odes fun?bres), в котором «Мертвые» стояли первым номером. При жизни Листа этот цикл не исполнялся. Впоследствии Лист выражал желание, чтобы оду «Мертвые» играли на его похоронах…
Лист стал часто думать о смерти. Он написал завещание, лейтмотивом которого являются любовь и вера. После его прочтения невозможно сказать ни одного нелестного слова в адрес Каролины Витгенштейн и так же невозможно сомневаться в искренности религиозного мировоззрения Листа:
«Я пишу это 14 сентября, в день, когда Церковь празднует Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В самом названии этого праздника есть то, что наполняло божественным светом всю мою жизнь. <…> Я чувствовал свое предназначение в глубине сердца с тех пор, когда мне было семнадцать лет, и я со слезами умолял, чтобы мне было позволено поступить в Парижскую семинарию; когда я надеялся, что мне будет даровано жить жизнью святых и, возможно, умереть смертью мучеников. Этого не произошло, увы! Тем не менее, несмотря на многочисленные прегрешения и ошибки, которые я совершил и в которых чувствую искреннее раскаяние, божественное сияние Креста никогда не было чуждо мне. Порой оно переполняло мою душу. Я благодарю Бога за это и умру с душой, устремленной к Кресту — нашему спасению, нашему высшему блаженству. И в подтверждение моей веры я хочу, прежде чем умереть, удостоиться святых таинств Римской Католической и Апостольской Церкви и через нее получить прощение и отпущение всех грехов моих. Аминь. Моим лучшим мыслям и делам, которые я совершил за последние двенадцать лет, я обязан только той, кого страстно желал бы назвать сладостным именем „жена“, но злоба людская и коварные происки препятствуют мне в этом, — Иоанна Елизавета Каролина, урожденная Ивановская. Я не могу писать ее имя без чувства невыразимой растроганности. Все мои радости — в ней; все мои страдания ею утишены. Она стала неразрывной частью моего существования, моей работы, моих забот, моей карьеры, помогая мне советом, поддерживая меня, воскрешая меня своим энтузиазмом и бесконечным неусыпным вниманием… более того, она часто отказывала себе во всём, отрекалась от самой себя, своей природы, чтобы нести мое бремя, которое стало ее богатством, ее смыслом! <…> Вечный свет сияет в моей душе. Мой последний вздох будет благословлять Каролину»[547].
Между тем события развивались по далеко не благоприятному для Листа и Каролины сценарию. В Рим прибыла Дениза Понятовская, дочь Диониса Ивановского, брата отца Каролины и, соответственно, ее двоюродная сестра. Как позже выяснилось, единственной целью ее визита являлась встреча с Густавом Гогенлоэ, чтобы передать ему информацию, что документ от 24 февраля был получен путем лжесвидетельства: Каролина была выдана замуж за князя Николая не насильно, а по собственному согласию; ее кузина присутствовала на церемонии бракосочетания и может засвидетельствовать, что невеста выглядела абсолютно счастливой.
Сыграла ли в данном поступке роль корысть? Ведь именно Дениза и две ее родные сестры в свое время пытались лишить Каролину наследства, не имея на это законных прав и действуя далеко не самым честным образом: подделав в 1844 году в свою пользу завещание отца Каролины. Афера была раскрыта, и между родственниками навсегда пролегла вражда. Или Денизой руководила жажда мести за якобы поруганную честь семьи?
На фоне этих дрязг особенно ярко вырисовывается светлый и бескорыстный образ Каролины, желавшей только быть честной перед Богом и людьми и посвятить себя любимому человеку.
Как бы то ни было, новый неожиданный удар ставил под угрозу легитимность с таким трудом добытого документа об аннулировании брака. Показательно, что монсеньор Гогенлоэ после встречи с Понятовской тут же безоговорочно принял ее сторону и выступил инициатором пересмотра дела Каролины в Священной конгрегации. Борьба Каролины за счастье продолжалась, возвращение в Веймар откладывалось.
Тем временем из Берлина пришло счастливое известие: 12 октября в семье Ганса и Козимы фон Бюлов родилась дочь. В память о любимом брате Козима назвала ее Даниела. Второе имя — Сента — девочка получила в честь… героини оперы Вагнера «Летучий Голландец». Козима, пока неосознанно, поклонялась, словно новая Сента, своему Голландцу, изгнанному с родины, нигде не находившему приют.
Крестины Даниелы Сенты фон Бюлов (1860–1940) были назначены на 24 ноября. В преддверии этого события друзья, по воспоминаниям Марфы Сабининой, старались развеять Листа, с нетерпением ожидавшего результата поездки Каролины в Рим: «Она, главное, надеялась получить от Папы развод; но со стороны Витгенштейнов встречались препятствия… Княгиня, кроме того, обвиняла семейство Гогенлоэ, а главное, кардинала Гогенлоэ в замедлении этого дела. Лист всегда отличался живым и неунывающим характером, но этот вопрос был для него вопросом жизни и поколебал его обыкновенное расположение духа, что выразилось в недостатке энергии к работе. Без сомнения, княгиня имела громадное влияние на Листа, что особенно было заметно во время ее отсутствия. <…> К счастью, вера взяла верх в его душе и водворила спокойствие; и его близкие друзья с удовольствием увидели, что он опять принялся за работу и стал прежним добрым и любезным человеком. Но он не скрывал, что дни его пребывания в Веймаре сочтены. Жители города, которые с гордостью считали его своим гражданином, не на шутку испугались и решили выразить ему свою преданность в день его рождения 22-го октября. К этому дню Лист вернулся в Веймар (он ненадолго выезжал в Вену, где встречался со своим дядей Эдуардом Листом. — М. З.) в сопровождении Бронсара, Таузига, Дресеке[548] (его балладу „Верность Хельги“ Лист тогда обработал для мелодекламации в сопровождении фортепьяно. — М. З.), Клича, Брейделя и других и, несмотря на свою усталость после дороги, утром он очень любезно принял несметное число посетителей. Город поднес ему диплом почетного гражданина города Веймара, молодые девушки — лавровый венок на вышитой подушке с названием главных его произведений; а вечером устроено было факельное шествие с неизбежными речами. Нужно знать пассивность и скромность веймарцев, чтобы понять всё значение устроенного торжества».
Но Листу все эти запоздалые проявления признания его заслуг были уже не нужны. Его истинное настроение тех дней видно из письма от 16 ноября, адресованного Агнес Стрит-Клиндворт:
«Вы говорите мне о Веймаре, где в прошлом месяце устроили в мою честь факельное шествие, взбудоражившее весь город, а потом городской муниципалитет единогласно избрал меня почетным гражданином города. (В скобках: уже примерно двадцать лет, как подобной чести меня удостоили городские муниципалитеты Пешта, Шопрона и Йены.) Тем не менее Вы совершенно правы: я словно бы не чувствую себя здесь дома, вероятно, потому, что здесь нет нужной мне точки опоры. И если я 12 лет оставался в Веймаре, то объясняется это чувством, не лишенным благородства: я должен был защищать от гнусного злословия честь, достоинство, величественный характер одной женщины; и, кроме того, меня держала здесь великая идея: обновление Музыки путем ее тесного союза с Поэзией; более свободное и, скажем так, более соответствующее эпохе развитие ее; это поддерживало мои силы. И эта идея, несмотря на то, что она наталкивалась на враждебность и различные препятствия, всё же немного продвинулась вперед. И что бы ни делали, она одержит победу, ибо она — органическая часть верных и справедливых идей нашего времени, и мне утешительно сознавать, что я служил ей честно, добросовестно и бескорыстно. Если в 1848 году, когда я поселился здесь, я захотел бы примкнуть к партии postumus[549] музыки, вступить в союз с лицемерами, лелеять предрассудки и т. п., мне, благодаря моим связям с главными корифеями противоположной стороны, ничего бы не было легче этого. Безусловно, внешне я пользовался бы тогда большим уважением и одобрением; те же самые газеты, которые теперь по обязанности пишут глупости и осыпают меня бранью, тогда бы до оскомины расхваливали бы и чествовали бы меня без каких-либо усилий с моей стороны. <…> Но я не мог избрать такую судьбу; слишком искренней была моя убежденность, слишком горячей и оптимистичной моя вера в настоящее и будущее, для того чтобы я стал приспосабливаться к пустым формулам критиканства наших псевдоклассиков, всеми силами стремящихся к возможности провозгласить: искусство погибает, искусство погибло!»[550]
Уезжая в Берлин на крестины внучки, Лист уже всё решил. Правда, и на этот раз судьба постаралась омрачить ему свидание с родными. В начале декабря серьезно заболела Козима; некоторые симптомы напоминали туберкулез… Еще не оправившись от потери сына, Лист пребывал в чрезвычайном волнении за здоровье дочери. Он оставался в Берлине до января, пока страшный диагноз не был опровергнут и угроза жизни Козимы не миновала. После окончательного выздоровления было решено отправить фрау фон Бюлов на хороший курорт «для укрепления жизненных сил».
В Берлине, у постели больной дочери, Лист словно подводил итог большому отрезку своей жизни, вспоминал всех, кто был ему дорог, кого он всегда искренне любил и кого упомянул в своем завещании. 22 декабря в письме Бландине он уже строил планы на поездку в Париж: «…Меня влечет в Париж прежде всего не „Тангейзер“, как бы ни был я вообще счастлив услышать это превосходное произведение в Опере (парижская премьера „Тангейзера“ готовилась с 1860 года; премьера состоялась 13 марта 1861-го и закончилась грандиозным скандалом. — М. З.) и, главным образом, вновь встретиться с Вагнером, которого я продолжаю любить; но, к сожалению, жизнь моя упорядочилась или не упорядочилась таким образом, что из-за сложности моих обязанностей мне редко приходится думать о вещах, мне приятных или развлекающих меня. И потому — сразу же открою тебе мой секрет — я еду в Париж попросту ради дорогой моей матушки и, разумеется — без отцовского чванства, — ради тебя и Эмиля. Вновь повидать сейчас матушку — моя сердечная потребность и обязанность, а потому вы можете быть уверены, что я не откажусь от этой поездки и как только получу вести из Рима, которые я непременно жду к середине января, двинусь в путь. Всё будет так, как я сказал…»[551]
Вести из Рима, не заставившие себя ждать, вселяли надежду: Священная конгрегация оставила в силе аннулирование брака четы Витгенштейн. Папа Пий IX лично подтвердил это решение 7 января 1861 года. На следующий день окончательное церковное постановление было подписано. Теперь можно было готовиться к свадьбе.
Лист уезжал из Берлина несколько успокоенным и насчет здоровья Козимы, и насчет собственного будущего. Правда, поездку в Париж пришлось ненадолго отложить — нужно было срочно возвращаться в Веймар. Великий герцог Карл Александр, взволнованный известием, что Лист собрался покинуть Веймар, вызвал его и попросил не предпринимать поспешных шагов, «не сжигать окончательно мосты» и даже в случае отъезда не прерывать культурную связь с Веймаром. Лист обещал выполнить последний пункт, но вопрос об отъезде был для него окончательно решен.
Двадцать первого января Новый Веймарский союз во главе с Листом организовал концерт из произведений Шуберта. Глава союза на этот раз не встал за пульт капельмейстера, но вновь после многолетнего перерыва сел за рояль и исполнил цикл «Венские вечера. Вальсы-каприсы по Шуберту» (Soir?es de Vienne. Valses caprices d’apr?s Schubert), написанный им еще в 1852 году.
А 8 марта Лист в последний раз перед отъездом из Веймара дирижировал концертом в придворном театре. Тогда под его управлением впервые прозвучал «Танец в деревенском кабачке» (Der Tanz in der Dorfschenke), более известный как «Первый Мефисто-вальс». Это произведение — вторая часть цикла «Два эпизода из „Фауста“ Ленау» (Zwei Episoden aus Lenaus «Faust»), завершенного в 1860 году.
Приведение дел в порядок перед отъездом задержало Листа в Веймаре до начала мая. Наконец, 10-го числа он прибыл на свою «вторую родину». Первым делом в Париже Лист встретился с матерью и убедился в ее добром здравии, затем навестил старых друзей: Берлиоза, Мейербера, Галеви, Россини, Делакруа, Ламартина и, конечно же, своего верного секретаря Беллони. 22 мая во дворце Тюильри Лист удостоился аудиенции Наполеона III.
В последний день мая после долгой разлуки Лист вновь увиделся с Мари д’Агу. Обоюдные обиды и претензии остались в прошлом. Они увлеченно говорили о работе Листа в Веймаре, о дружбе с Вагнером, о будущем искусства. Об этой знаменательной встрече Лист писал Каролине Витгенштейн:
«Она была удивлена моим затворническим образом жизни, который я сейчас добровольно веду, а также, возможно, и тем особым упорством, которое отличает мой жизненный путь как художника и которое она раньше никогда не замечала; теперь же она, кажется, оценила это. <…> Она — не знаю почему — была сильно растрогана, лицо ее залилось слезами. Я поцеловал ее в лоб — впервые после стольких долгих лет — и сказал: „Послушайте, Мари, будем говорить на языке простых людей. Благослови Вас Бог! Не желайте мне зла!“ В тот момент она не могла мне ничего ответить, лишь слезы сильнее заструились из глаз. Оливье рассказывал мне, что во время их совместной поездки по Италии он часто видел ее горько плачущей в тех местах, которые ей особенно остро напоминали годы нашей юности. Я сказал ей, что это воспоминание тронуло меня. Она возразила, почти заикаясь: „Я всегда буду хранить верность Италии… и Венгрии!“ На этом я тихо покинул ее. Когда я спускался вниз по лестнице, передо мной встал образ моего бедного Даниеля. Ни одним словом, никаким образом мы не упомянули о нем во время тех трех или четырех часов, что я провел с его матерью!!!»[552]
Бывшие влюбленные расстались как добрые друзья, очень много пережившие вместе, много страдавшие и всё простившие друг другу.
В Париже произошло и примирение Листа с Вагнером. Тяжело переживая провал «Тангейзера» в Парижской опере, Вагнер, словно забыв о затянувшейся ссоре с Листом, искренне сожалел, что старого друга в то время не оказалось рядом. В начале мая сам Вагнер покинул Париж, разминувшись с Листом всего на несколько дней. Наконец, в июне произошла долгожданная встреча. Вагнер вспоминал:
«Лист, который уже успел войти в старую колею, которому даже со своей собственной дочерью Бландиной удавалось поговорить только в экипаже, между одним визитом и другим, нашел всё-таки по доброте своего сердца возможность явиться ко мне на „бифштекс“. Раз он уделил мне целый вечер, дружески дав мне этим случай выполнить некоторые маленькие мои обязательства. Он играл на рояле перед моими друзьями из прежних тяжелых времен моей жизни. Бедняга Таузиг, лишь накануне исполнивший для меня фантазию Листа („Бах“)[553] и повергший меня в истинное изумление, теперь, когда Лист как бы случайно исполнил ту же вещь, почувствовал себя совершенно уничтоженным, бессильным по сравнению с таким колоссом. Кроме того, мы все собрались на завтрак у Гуно[554], прошедший необыкновенно скучно. <…> После этого завтрака я еще раз встретился с Листом на обеде в австрийском посольстве. Этим случаем друг мой любезно воспользовался, чтобы, сыграв на рояле несколько отрывков из „Лоэнгрина“, выказать перед княгиней Меттерних[555] свою симпатию ко мне. Он был без меня приглашен на обед во дворец Тюильри. Потом он мне передал содержание своей беседы с императором Наполеоном о постановке „Тангейзера“ в Париже, результат которой показал, что мое произведение не подходит для Парижской оперы»[556].
Характерный штрих к портрету Листа: еще до примирения с Вагнером он на официальной аудиенции у императора старался составить ему протекцию. Точно так же он вел себя и у княгини Меттерних, известной любовью к вагнеровской музыке. Ради дружбы и искусства он всегда забывал любые обиды.
Лист пробыл в Париже до 8 июня, перед отъездом заручившись обещанием Вагнера приехать в Веймар как можно скорее, пока сам он не распрощался с этим городом.
С возвращением Листа музыкальная жизнь Веймара вновь ожила. Так, 25 июня состоялся концерт, на котором впервые был исполнен перед публикой «18-й псалом „Небеса проповедуют славу Божию“» (Der 18. Psalm. «Coely enarrant gloriam Dei»), сочиненный Листом в прошлом году. А на первые числа августа было запланировано грандиозное музыкальное торжество.
Седьмого августа в присутствии большинства музыкантов — единомышленников Листа, съехавшихся к нему «под крыло» со всех концов Германии, был основан Всеобщий немецкий музыкальный союз (Allgemeiner deutscher Musikverein), пришедший на смену Новому Веймарскому союзу. Борьба Листа за развитие искусства, не прекращавшаяся все эти годы, не прошла даром: границы новой музыки расширялись; всё больше сторонников объединяла в своих рядах нововеймарская школа, которой теперь уже было тесно в рамках Веймара. Она должна была одержать победу во всей Европе!
На открытие Всеобщего немецкого музыкального союза из Парижа приехала Бландина с мужем. А одним из самых ожидаемых гостей стал Вагнер. Он красноречиво вспоминал о быте Альтенбурга в последние дни пребывания там Листа:
«В Веймар я прибыл в два часа ночи, и на следующий день Лист повез меня в приготовленное для меня помещение в замке Альтенбург, заметив многозначительно, что мне отведены комнаты княжны Марии. Впрочем, на этот раз никого из дам там не было: княгиня Каролина была в Риме, а ее дочь, вышедшая замуж за князя Константина Гогенлоэ, жила в Вене. <…> В общем, замок собирались запечатать. Для этой цели, а также и для принятия инвентаря всего имущества приехал из Вены юный дядя Листа, Эдуард[557]. В замке царило большое оживление, так как на предстоящее празднество съехалось множество музыкантов, значительную часть которых Лист поместил у себя. Среди этих последних следует назвать Бюлова и Корнелиуса. Все они, и прежде всего сам Лист, к моему удивлению, носили простые дорожные шапочки, что указывало на непринужденную обстановку этого сельского музыкального празднества, посвященного Веймару. В верхнем этаже с некоторой торжественностью был помещен Франц Брендель с супругой. Весь дом „кишел музыкантами“. Среди них я встретил старого знакомого Дрезеке, как и молодого человека по имени Вайсхаймер[558], которого Лист как-то раз направил ко мне в Цюрих. Приехал и Таузиг. <…> Для небольших прогулок Лист назначил мне в спутницы Эмилию Генаст[559], на что я не имел оснований жаловаться, так как она была очень остроумна. Я познакомился также со скрипачом и музыкантом Дамрошем[560]. <…> Веселее всех был Бюлов. Он должен был дирижировать при исполнении симфонии Листа „Фауст“ (7 августа, на торжественном концерте в честь основания союза. — М. З.). Его живость и энергия были необычайны. Партитуру он знал наизусть и провел ее с оркестром, состоявшим далеко не из первоклассных сил германского музыкального мира, с изумительной точностью, тонкостью и огнем. После этой симфонии наиболее удачной из исполненных вещей была музыка „Прометея“. Но особенно потрясающе подействовал на меня цикл песен Die Entsagende[561] Бюлова в исполнении Эмилии Генаст. Остальная программа представляла мало утешительного… а немецкий марш Дрезике был даже причиной весьма крупных неприятностей. Этой странной композиции столь одаренного в общем человека, сочиненной как бы в насмешку, Лист из непонятных мотивов протежировал с почти вызывающей страстностью. Он настаивал, чтобы марш прошел под управлением Бюлова. Ганс согласился и провел его опять-таки наизусть. Но это дало повод для неслыханной демонстрации. Лист, которого ничем нельзя было заставить показаться публике, устроившей его произведению восторженный прием, теперь, во время исполнения марша Дрезике, поставленного последним номером программы, появился в литерной ложе. Протянув вперед руки и громко крича „браво“, он яростно аплодировал произведению своего протеже, которое было принято публикой крайне неблагосклонно. Разразилась настоящая буря, и Лист с побагровевшим от гнева лицом выдерживал ее один против всех. Бландина, сидевшая рядом со мной, пришла, как и я, в отчаяние от неслыханно вызывающего поведения своего отца. Прошло немало времени, пока всё успокоилось. От самого Листа никакого объяснения нельзя было добиться. Слышались только гневно-презрительные замечания по адресу публики, для которой марш этот слишком хорош. С другой стороны, я узнал, что всё было затеяно с целью отомстить веймарской публике, которой, однако, на этот раз в театре вовсе не было. Лист мстил за Корнелиуса, опера которого „Багдадский цирюльник“, исполненная некоторое время тому назад в Веймаре под личным его управлением, была освистана местными посетителями театра. Я заметил, кроме того, что у Листа за эти дни были и другие большие неприятности. Он сам сознался мне, что старался побудить великого герцога Веймарского выказать мне какое-нибудь внимание, пригласил меня вместе с ним к своему столу. Но так как герцог колебался принять у себя политического эмигранта, не амнистированного королем Саксонским, Лист рассчитывал добиться для меня по крайней мере ордена Белого сокола[562]. Но и в этом ему было отказано. <…> Небольшие обеды, которые Лист устраивал для избранных гостей, были очень уютны. На одном из них я упомянул об отсутствующей хозяйке Альтенбурга. <…> Так среди разнообразных удовольствий прошла неделя. Настал день разлуки для всех нас. Счастливый случай устроил так, что большую часть своего давно решенного путешествия в Вену мне пришлось совершить в обществе Бландины и Оливье. Они задумали посетить Козиму в Райхенхалле[563], где она проходила курс лечения. Прощаясь на вокзале с Листом, мы вспомнили Бюлова. Он уехал накануне, отличившись в минувшие дни празднества. Мы изливались в похвалах по его адресу. Я лишь заметил шутливо, что ему незачем было жениться на Козиме…»[564]
В последние несколько дней пребывания в Веймаре Лист, по выражению Вагнера, «запечатал Альтенбург» и, как в первые дни «веймарского периода», снял номер в гостинице «Эрбпринц». Стало ясно, что Каролина не вернется в Веймар (она больше никогда не приезжала туда).
Надежды на театральную реформу не оправдались, зато впереди брезжила надежда на реформу церковной музыки. Лист не обрел в Веймаре семейного счастья — зато теперь, после католического постановления об аннулировании брака Каролины, надеялся на скорое венчание с любимой в Риме.
Семнадцатого августа, в субботу, Лист покинул Веймар. «Веймарский акт» его жизненной трагедии подошел к концу.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК