Речь в Коллеж де Франс 3 мая 1923 года[1]
Речь в Коллеж де Франс 3 мая 1923 года[1]
...Настоящая публикация сопровождается рисунками Ж.Кокто, которые у нас воспроизводятся впервые. (Здесь и далее — прим. автора вступления и перевода.)
Господа, поблагодарив Коллеж де Франс за оказанную мне высокую честь, я хотел бы прежде всего сказать вам, как я взволнован нашей встречей в этих священных стенах. Весьма знаменательное признание. Можете считать его первым проблеском совершенно нового духа, рождающегося у нас на глазах. Еще вчера, еще сегодня утром волнение было не в моде.
Всякий раз, когда искусство приближается к высшему совершенству, именуемому классицизмом, оно перестает волновать. Это переходный этап. Время, когда ледяная змея выползает из пестрой кожи.
Но после долгих мук, долгого затворничества обнаженное искусство набирает силу и противопоставляет богатству наряда богатство духа.
Наступает великая минута. Скупость оборачивается достоинством. Чувство не выходит из берегов, не разменивает яркие цвета на лавину призрачных оттенков. Оно выражается сдержанно, чуть искажая безупречные пропорции, — иначе они были бы мертвыми.
Однако довольно. Боюсь, как бы моя речь не превратилась в лекцию. Такой тон коробит меня самого. Хватит. Давайте просто поболтаем.
В каждом из нас сидит пружина. Ее непременно надо заводить до отказа, но при этом не сломать. Пока пружина раскручивается, работает управляющий нами механизм. Все решает последний поворот ключа. Тут нужно инстинктивно чувствовать, когда остановиться. Что я имею в виду? Круг представлений, который определяет и связует воедино самые разные наши действия и поступки. Каждый новый завод пружины — очередное повторение того же круга. Не повторяться нельзя. Стоит повернуть ключ еще на пол-оборота — и начнешь заговариваться. Еще чуть-чуть — и пружина лопнет.
После «Профессиональной тайны» я решил молчать. То есть писать только стихи или романы — это ведь совсем другое дело. Я почувствовал, что исчерпал запас идей, кочевавших из предисловия в предисловие, из брошюры в брошюру, и, глядя, какие неожиданные плоды приносят они что ни день (позвольте причислить к ним и ваше любезное приглашение), счел за благо предоставить им действовать самостоятельно.
Держать их под контролем слишком утомительно. Радиоуправление рассчитано на большие расстояния. Вблизи волны только накладываются одна на другую, создают шум и мешают спать соседям.
Трудно представить себе, сколько недоразумений может вызвать одна-единственная фраза, какая-нибудь прописная истина, которую публика примет за парадокс. Вот вам пример.
В «Петухе и Арлекине» я говорил, что обогнавших время не бывает, а бывают только отставшие. Это очевидно. Но я высказал это в 1917 году, когда все говорили загадками. И вот, вместо того чтобы понять меня так, что гений, каким бы удивительным он ни был, приходит всегда в свой час, и когда этот час бьет, все часы в мире начинают отставать, — сочли, будто я обвиняю кого-то в отсталости и отказываю кому-то в новаторстве. Дикая привычка выворачивать все шиворот-навыворот, в которой повинна «темнота» поэзии Рембо, Малларме, Дюкаса, темнота мнимая, потому что в конечном счете она прозрачна, как алмаз.
Счастье, что я догадался принять невинный вид, прежде чем закричать, как ребенок из сказки Андерсена: «А король-то голый!»
Подобные возгласы никого не устраивают. Ни короля, ни придворных, ни народ, ни мошенников, которые, как вы помните, ткут материю, невидимую для дураков.
Увы! Сколь часто и восторг публики оказывается плодом недоразумения. Напишите: «Волосы не должны торчать на голове» — и вы будете иметь колоссальный успех у лысых.
Господа! Сегодняшняя и вчерашняя простота — разные вещи, и в наши дни в доказательство своей старомодности Альцесту пришлось бы декламировать сонет Оронта[2], вместо того чтобы петь «Свою красотку я люблю».
Перечитайте «Смешных жеманниц». Странное дело! Оказывается, именно смешной язык, на котором говорят девицы и Маскариль, и оплодотворил словесность. Самый простой из нынешних писателей еще более напыщен, чем Горжибюс или несносные шаркуны, дурачащие его дочь и племянницу. Не забудьте, что Като и Мадлон довольно неудачно подражают благородному стилю, а Маскариль — только шут[3]. Нетрудно догадаться, что язык, над которым издевается Мольер, был прародителем того, на котором заговорят Малларме, Марсель Пруст, Андре Жид, Жироду, Жак Ривьер[4]. Он высмеивал новое точно так же, как это делают обозреватели наших журналов в конце каждого года.
Судя по всему, Мольер — образец чисто французского ума, который убивает своей прямолинейностью и неповоротливостью.
И наша простота так же возмутила бы своей сложностью тень Мольера, как она возмущает своей примитивностью наш молодой авангард. Вообразите мое положение. С одной стороны — тень Мольера, то есть публика. С другой стороны — негодует молодое поколение. И вот приходится идти по проволоке в одиночку и знать, что все только и ждут, чтобы ты сломал себе шею.
Прекрасно, не правда ли? Порой низменные стороны моей натуры начинают вопить и требовать, чтобы я спустился на землю. Но вскоре сдаются.
Я не принадлежу ни к какой школе и не создаю своей собственной, поэтому публика, обожающая этикетки, навешивает их на меня все разом.
Так в свое время меня объявили дадаистом, хотя сами дадаисты терпеть меня не могли.
Но вернемся к не слишком удачному образу эквилибриста. Вы скажете: «Одиночка недолго остается одиночкой. Скоро появится школа одиночек или школа хождения по проволоке». Что ж, возможно. Но это была бы опасная школа, а потому она привлекла бы не много желающих.
Если же ученики все-таки объявятся, я сумею быстро разочаровать их.
Каким образом?
Ах, господа, для этого достаточно вывернуть карманы, закатать рукава и выложить карты. Профессиональную тайну можно разболтать без всякого риска. Нужно ведь еще суметь ею воспользоваться.
Итак, вот мой секрет: надо отказаться от стилей-масок и сохранить стиль-лицо.
Это позволяет круто сворачивать в сторону от того, что было создано прежде, и превращать каждое новое произведение в дебют. Таким способом не добудешь славы. Слава — особа рассеянная. Ей нужно, чтобы старых знакомых было легко опознать с первого взгляда. Но даже если изображение на лицевой стороне ковра, вытканного художником по моему методу, будет небезупречным, добротность его основы все же стоит больше любых красивых узоров. (...)
Скажу вам, кто мои учителя: Эрик Сати и Пикассо. Им я обязан больше, чем любому писателю. Влияние писателя может быть навязчивым, как тик, а удивительная свободная дисциплина этого музыканта и этого художника не позволит вам ослабеть. Ослабеть в данном случае — значит не суметь вырваться.
Сколько раз упрекали Сати и Пикассо в том, что они не знают, куда идут. То вдруг Пикассо отрекается от кубизма. То Сати поворачивает назад. И к ним снова относятся как к дебютантам. Вот это и есть чудо.
Сати говорил мне: «Все великие художники— любители». А посмотрите-ка, сколько вокруг нас других, тех, что дослуживаются до известности прилежным корпением над письменным столом, хотя сами же издеваются над буржуа с его меркантильностью.
Я готов согласиться, что, когда смотришь издалека, творчество художника предстает чем-то единым и чрезвычайно трудно разглядеть те резкие повороты, которые обозначают обновление гения. Но если обратиться к нашим современникам, мы найдем наглядные примеры: взять хотя бы Игоря Стравинского, который, ошарашив музыковедов «Весной священной», тут же круто изменил направление и оставил их с носом.
Как видите, господа, я то и дело сбиваюсь с одного на другое. Признаться, это входило в мои расчеты. Я боюсь лекций. И не гожусь в лекторы. Как-то нелепо вещать перед аудиторией. Другое дело — беседовать по-дружески. Дружба мне больше по душе, чем менторство.
Как-то, рассказывая о своем посещении Виктора Гюго в Брюсселе, Бодлер сказал: «Гюго пустился в один из тех монологов, которые он называет беседой».
Конечно, приглашать к беседе, стоя на кафедре, не совсем честно. И все же, если я вас запутаю, прерывайте меня, не стесняйтесь, и я постараюсь выразиться яснее, хотя я неважный импровизатор.(...)
Эпоха бывает темной только для темных умов. Наша, как раз потому, что она столь богата, слывет головоломкой. Одни путаются в ней, другие бегут от нее в прошлое, третьи ловят рыбку в мутной воде. И лишь немногие ориентируются в ней. Однако с птичьего полета она видна, как на карте.
Кажется, еще Гийом Аполлинер говорил о свете «столь нежном, что можно взглядом проникнуть в самую его глубину». Но сам он умер, не успев насладиться светом. Этот отшельник, осколок восемнадцатого века, жил на бульваре Сен-Жермен в маленькой квартирке, уставленной африканскими статуэтками и увешанной жуткими картинами.
Никто не чувствовал себя так неловко в своей эпохе, как он, выступавший в ее первой шеренге. Он терпел ее, мистифицировал, изящно украшал ее цветами. Но предчувствовал близкий спад. Однажды, когда мы прогуливались с ним возле министерства колоний, где он работал, он признался, до чего ему тошно. Тошно потому, что тот самый модернизм, апостолом которого он себя считал, ужасно раздражал его. Открыв шлюз, он проклинал наводнение: он-де просто хотел пошутить. Его притягательная сила в контрасте: он анархист по долгу и романтик по натуре. Взгляните, как дрожит капля чернил на кончике его пера. Упав на бумагу, она расплывается в пятно-звезду. Творения этого великого поэта подобны таким изысканным кляксам.
И все-таки, несмотря на подспудное влечение к порядку, Аполлинер любил все причудливое: негритянские безделушки, африканские фигурки, нью-йоркские афиши. Он был космополитом. Я — нет. И с какой же тоской смотрел я, как все вокруг меня засыпало холодным, холоднее смерти, снегом. Литературу собирались высмеять и уничтожить. Это безумное самоубийство завораживало меня голубыми глазами Аполлинера. Но вот за дело взялись лихие писаки и под предлогом искоренения морали принялись разрабатывать жилу, которую отыскали в фарсах Альфреда Жарри[5].
Я сочинил тогда «Мыс Доброй Надежды». Эта эпическая поэма — винт аэроплана, плетеный канат, попытка покончить с расписным веером Малларме, ангельскими кудрями Рембо, с конструированием натюрмортов. Я чувствовал себя в полном одиночестве. Клуб самоубийц-дадаистов был для меня единственно приемлемой группировкой Но я не годился для той деятельности, которой они предавались. Музыка указала мне путь. И я написал «Петуха и Арлекина».
Когда «Петух и Арлекин» вышел в свет, возникла опасность, что наш кружок, чего доброго, примут всерьез, а это смерти подобно. Как-то утром я с грустью размышлял об этом, как вдруг Дариюс Мийо сказал мне: «Тут есть один бар, как раз для тебя». Речь шла о баре «Гэйа» на улице Дюфо. Он всегда пустовал. Жан Винер, товарищ Дариюса по консерватории, великолепно играл там американскую музыку. Он и предложил мне через Мийо устроить там нашу штаб-квартиру. Я не колебался ни секунды. Бар принадлежал Луи Мойзесу, теперь он хозяин «Быка на крыше» на улице Буасси-д’Англа.
Я неплохой джазист и горжусь этим, джаз, как и рисование, мой конек, как скрипка у Энгра[6]. Когда Винер садился за фортепьяно, а негр Вене брал саксофон, джаз опьянял меня больше вина, которое, кстати говоря, я плохо переношу. В джазе у вас вырастает два десятка рук, вы чувствуете себя богом грома.
Посетители повалили валом. И мы стали жертвой своего рода музыкального шовинизма. Говорили, что мы изменили самим себе, записались в клоуны, в балаганные шуты. Рассказывали, да и до сих пор поговаривают, будто я открыл дансинг. Я безнадежно погубил свою репутацию. Зато наше дело было спасено!
Вряд ли стоит подробно рассказывать, как чудесно сложилась судьба молодых музыкантов. Вам известен их талант и их успех. Так вот, бар сыграл в этом немалую роль.
Дух обновления сказывался во всем: в блюзах и сонатах, в фокстротах и песнях, в «Быке на крыше» и «Свадьбе на Эйфелевой башне» Наступила наша весна. Обычно такие молодые побеги в искусстве возбуждают любопытство снобов, будоражат молодежь и повергают в уныние критиков. Между тем уж критики-то должны бы понять, что в этом свидетельство их победы, а не поражения. Они выиграли дело и потому начинается новая борьба. Но нет, вместо того чтобы усмехнуться (каждому свой черед), это почтенное сословие возмущается.(...)
Посмотрите, что происходит сегодня. Критиков и светских снобов с большим трудом обучили правилам головоломной карточной игры. Только они возгордились тем что что-то усвоили, как все меняется: теперь играют в чехарду.
Поскольку я все время перескакиваю в рассказе из одного времени в другое и лишь перекатываю с боку на бок тугой клубок, который хотел бы размотать перед вами, то я уж не стану утомлять вас описаниями болезненного переходного возраста. Нет ничего менее ясного и простого, чем тот момент, когда рождается простое и ясное состояние духа. Но все же можно проследить нить событий.
Макс Жакоб предложил основать антимодернистский союз. Я призывал отречься от небоскребов и вновь вернуться к розе. Но это было неверно истолковано. Вернуться — не значило оживить старый цветок. Наоборот, я хотел вырастить новый.
Всему свое время, и после попойки наступает похмелье. Мы хватили лишку и теперь мучились. Мы стали писать правильные стихи, изгонять редкие слова, экстравагантность, экзотику, телеграммно-афишный стиль и прочие американские штучки.(...)
Появился Реймон Радиге. Ему было пятнадцать лет, а он выдавал себя за восемнадцатилетнего, чем навсегда запутал своих биографов. Он не стриг волос. Был близорук, почти слеп и очень молчалив.
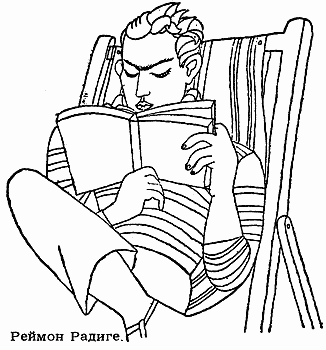
Когда он в первый раз пришел ко мне от Макса Жакоба, мне сказали: «Там в прихожей какой-то мальчишка с тросточкой».
Он жил в Парк-Сен-Мор, на берегу Марны, и мы называли его «марнским чудом». Но дома он ночевал редко, спал где придется: на земле, на столах, в мастерских у художников Монмартра и Монпарнаса. Время от времени он доставал из кармана грязный смятый клочок бумаги, расправлял его и читал стихотворение, свежее, как гроздь смородины, как морская раковина.(...)
Я потому останавливаюсь на фигуре Радиге, что он кажется мне лучшим выражением того духа, которому я намеренно не даю определения, — иначе он бы поблек.(..)
Дух, о котором я говорю, не был моим или чьим-либо еще ни было изобретением. Скорее, сам этот дух побудил нескольких музыкантов, художников, писателей собраться вместе и образовать дружеский кружок, далекий от какой бы то ни было доктрины.
Вы вправе спросить: «Что это за «мы», которое вы так часто произносите, вместо того чтобы сказать «я»? Не уловка ли это, чтобы выдать ваши личные взгляды за общие?» Так вот.
Каждый раз, когда я говорю «мы», я вспоминаю традиционные субботние встречи. В 1919-м, 20-м и 21-м годах каждую неделю мы встречались то на Монмартре, то на площади Мадлен. Мы — музыканты и я — устраивали обеды, чтобы регулярно видеться. Впоследствии на наши субботы стало приходить гораздо больше народу. Мы никогда не говорили об искусстве. После обеда шли к Мийо, он сочинял в то время музыку к «Быку на крыше» и играл ее в шесть рук с Ориком и Артуром Рубинштейном. Поль Моран[7] и Люсьен Доде[8] были за барменов. Лед приносили в салфетке. По дороге он таял и холодил нам руки. Когда он кончался, Моран собирал снег с подоконника и продолжал взбалтывать коктейли. Мы устраивали шуточные переодевания, катались по крохотной столовой на велосипеде, — конечно, в пересказе все это кажется чепухой, но никакое литературное кафе не могло бы оказать такого зажигательного действия на наши умы, хотя все они отличались друг от друга.(...)
Субботние обеды прекратились по многим причинам. Из двух главных первая — смерть Фоконне[9] — печальна. Вторая скорее забавна: наши сборища слишком посерьезнели. Моран придумал название: Общество Взаимного Восхищения — ОВВ. Мы заговорили о тиражах наших книг. Гольшман[10] стал устраивать у нас свои концерты, Морис Мартен дю Гар и Марсель Раваль[11] — вербовать сотрудников для своих журналов. А я почувствовал, что во мне проснулись замашки моего деда, строгого блюстителя ритуала семейных обедов. Чуть что не так — и я уже хмурил брови. Дружеские пирушки превратились в тягостную повинность. Мы ликвидировали ее в два счета.
Долой же всякие семейные обеды и каноны. Пикассо никакой не кубист, Малларме — не маллармист, Дебюсси — не дебюссист.
Музыковеды считают, что уязвили меня, назвав хулителем Клода Дебюсси. Они не могут понять, что интересы дела и личное уважение — разные вещи, что масштаб «Петуха и Арлекина» не позволяет мне размениваться на мелочи и вынуждает атаковать корифеев.
Я высоко ценю именно те произведения, на которые нападаю, и мое негодование обращено не на них, а на их потомство, в котором они предстают изрубленными на кусочки, вываренными и разжеванными в жвачку.
Великий человек — как эпидемия. Его жертвы собираются в одном месте. Получается школа — этакая больница, копаться в которой мне совсем неинтересно.
Средние игроки ничего не смыслят в игре мастеров и потому злятся.(...)
Но я еще не кончил о Радиге. Его книгу «Одержимый» я хотел привести как пример одной из наших побед. Когда после отчаянной шумихи он вышел на сцену с этим бесстрастным романом, эффект был невероятный.
Все в этой истории странно и забавно.
Начиная с рекламы издателя, способной провалить любой дебют. Грассе[12] действовал очертя голову; он влюбился в книгу до безумия. Стал «одержимым». Это уже само по себе небывалая вещь. И из лучших побуждений он заменил одно зло другим: клеймо молчания клеймом шумихи. Всякое сильное произведение обречено быть заклейменным, но в разные времена неизменная ненависть, с какой его встречают, выливается в разные формы. Появление «Одержимого», книги, возмутительной тем, что в ней не было ничего возмутительного, едва не сошло слишком гладко. Но шумная реклама на американский лад устранила эту опасность, вернула фишку, как в детской игре, к началу кона и заставила ее, как положено, преодолевать препятствия.
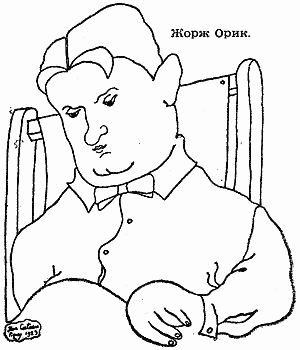
Новым оказалось и то, что, несмотря на всеобщее недовольство, книга ходила по рукам, вопреки укоренившемуся представлению, будто шедевр должен ждать признания сто лет.
Мне посчастливилось видеть, как Радиге писал ее летом 1921 года, словно штрафное каникулярное задание. Ему шел тогда восемнадцатый год. Не больше и не меньше. Я подчеркиваю это, потому что в этом вундеркинде поразительно мало отклонений от нормы. Феномен Рембо до известной степени объясняется кошмарами и чудесами детства. За руками этого звездного фокусника никак не уследишь. Радиге же работает на виду, с засученными рукавами.
Рембо в точности отвечает представлениям публики о гении как о чем-то ослепительном и драматичном. Радиге выпало счастье родиться позже того времени, когда избыток ясности и банальности навлекал на себя громы и молнии. Поэтому он может поражать своей обычностью, спокойствием гения, который выглядит как высшая степень таланта, и только.
Вы уже поняли, к чему я клоню. И угадали прямую линию, обросшую словесными зигзагами.
Видите ли вы эту прекрасную линию(...)? Мученики проклятой литературы, крестники Поля Верлена, позволят нам замкнуть круг.
Не подумайте, что таких, как мы, много. Шаблонные представления о бунте (Рембо сказал бы «привычные, как застарелый зуд») все еще мешают понять, что ныне анархия выступает в облике смиренной голубки.
Я словно снова иду по проволоке, один. И словно слышу голоса доброжелателей: «Остерегайтесь, Радиге молод, вы вскружите ему голову. Вспомните, как в кафе «Ротонда» юный чемпион-шахматист проиграл последнюю партию, ослепленный вспышками фотографов». Опасения напрасны. Никакие фотографы не вскружат голову нашему чемпиону, ибо музы поразили его тем безумием наизнанку, которое есть сама мудрость.
Если бы белоколонные храмы были только архитектурой, их судьба была бы довольно жалкой, но в храме живет богиня. Богиня — Поэзия. И я хотел бы, чтобы мои друзья-космополиты воздвигли в этом храме ее разрисованную статую с огромными эмалевыми глазами. Ужасную, как убранный красными перьями бог войны из Британского музея. Ведь поэзия, как я ее понимаю (надеюсь, я могу сказать, как мы ее понимаем), вовсе не такова, какой представляют ее неоклассики. Она, как ни странно, позволяет мне восхищаться одновременно графиней де Ноай[13] и Тристаном Тцара[14].
Поэзия — род электричества. И этот ток я ощущаю в них обоих. Ну, а какой формы электрические лампочки и абажуры — это уже другой вопрос.
Не думайте, будто я им пренебрегаю. Теперь как раз пришел черед заняться абажурами. Меня всегда злит, когда восхищаются светильниками без разбору: исправными и неисправными. Но это уже следующий этап новизны.
Увы! «Дочь Миноса и Пасифаи[15]» Расина всегда будет казаться прекраснее, чем бодлеровская «Служанка скромная с великою душой[16]».
И все же, хотя мне не по душе так называемый «идейный стих» (например: «На дряхлый наш словарь колпак надвинул красный[17]» у Гюго. Стих Бодлера я не назову идейным, потому что в нем форма и смысл едины), но все же верх дурного вкуса — это не он, а мелодичный стих и мелодичная проза. Стоит какой-нибудь газете обратиться к читателям с просьбой выбрать лучшие, по их мнению, отрывки из Ренана[18], как все дружно цитируют мелодичные фразы. Доведись мне участвовать в этом опросе, я бы сказал: «Фраза Ренана хороша тогда, когда меня волнует ее мысль».
Прекрасный французский язык не течет, не льется наподобие итальянского. Он компактен. Будь то язык Бенжамена Констана, Стендаля, мадам де Лафайет, Монтеня, Паскаля, Монтескье, Рембо, Малларме, — он всегда легок, точен, искрист и плотен, как снежный комок.
Точные определения поэзии, ее музыки, ее образов смешны и нелепы. Поэзия — карточный фокус, который проделывает душа. Она — в нарушении равновесия, в божественных каламбурах.
«Свадьба на Эйфелевой башне» — сложная система передач, с помощью которой я перенес поэзию на сцену. И горжусь тем, что впервые показал — не понятый никем, даже поклонниками пьесы — поэзию в театре, ведь обычно, создавая поэзию для театра, допускали ошибку: плели тонкое кружево, забывая, что на него будут смотреть издалека. Я сплел кружево из веревок, и меня никто не понял. Аплодировали фарсу, сатире, а я хотел вовсе не этого. Я отказался от всякой образности, всяких словесных ухищрений. Осталась только поэзия. То есть для современного слуха не осталось ничего. Англосаксы принимают «Свадьбу» за нонсенс.
Стоит ли особенно удивляться тому, что новая красота поначалу невидима? Макс Жакоб этим летом писал мне: «Ты вечно жалуешься, что тебе трудно пишется, а теперь радуешься ангелу, который вот уже четвертый день помогает тебе. Остерегайся. Не доверяй ангелам, часто ими прикидываются демоны».
Так и вышло. Я пишу с трудом, а тут вдруг какое-то наитие. И что же: оказалось, моя работа годится только на растопку.
Что не поддается сравнению, то обескураживает. Сравнение лежит в основе самого механизма удовольствия. Порой работа удовлетворяет нас потому, что напоминает нечто, запавшее прежде в душу. Но наша собственная новизна, которой не на что опереться в памяти, выбивает у нас из-под ног почву, ставит отдельно от целого мира. Она смущает и разочаровывает нас точно так же, как разочарует и смутит читателя.
В зависимости от духа времени новое покажется нам или слишком диким, или слишком пресным. Мы недоверчиво осматриваем этого лысого младенца — совсем не таким рисовалось нам наше чадо. Суметь, преодолевая отвращение, убедить себя в своей правоте очень трудно.
Послушайте, как расхваливает картину торговец, чтобы продать ее: «Этот Пикассо — вылитый Джотто. Этот Джотто прямо-таки — Пикассо. Этот Ренуар — настоящий Ватто. Этот Ватто — Ренуар. Этот Сезанн — Эль Греко. Этот Эль Греко — Сезанн. Этот Гойя — Мане. Этот Мане — Гойя».
Для критиков шедевр — произведение, которое можно с чем-то сравнить, которое имеет вид шедевра. Однако подлинный шедевр не таков. Он обязательно кривоног, невзрачен, в нем все неправильно, но в свое время именно его восторжествовавшие ошибки и канонизированные изъяны и сделают его шедевром. «Одержимый» дорог мне не тем, чем он напоминает «Адольфа[19]», а тем, что критики считают его недостатками.
Когда-нибудь в Лувре повесят кубистское полотно Пикассо. Но все мы вроде того моряка из старого романса, у которого на левом плече сидел попугай, а на правом — обезьяна. Пока Пикассо напоминает Энгра или Коро, наш попугай в восторге. Но стоит ему отойти от образцов, как наша обезьяна приходит в ярость. Задушим же этих мерзких тварей.
Позвольте рассказать вам по этому поводу анекдот об автомобилистах в Китае. Знаете? Когда они проезжали по одной китайской деревне, у них прохудился бак с бензином. Стали искать мастера и нашли такого, который не мог починить бак, но брался за два часа сделать точно такой же. И вот автомобиль снова в пути. Среди ночи — новая авария. Китаец сделал все как было, и дырку тоже.
Господа, не подумайте, что я призываю идти назад или копировать дырку. Стройность, которую я возвещаю, увы, будет казаться нестройной, так же как моя гармония нескладной, мой Парфенон — перекошенным.
Но облик мира меняется, а вместе с ним и нос Клеопатры[20].
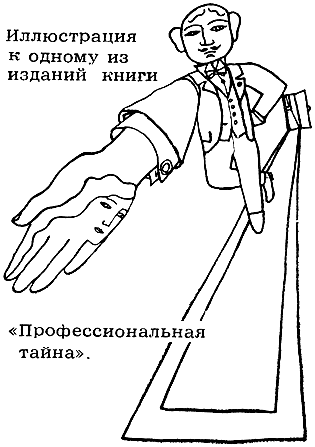
?
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Времена года
Времена года Брейгель жил и работал в больших городах — экономических центрах того времени — сначала в Антверпене, потом в Брюсселе. Естественно, он не мог оставаться равнодушным к непростой политической ситуации, которая сложилась в стране к началу 1560-х годов.
Петроград-Ленинград (1923–1927)
Петроград-Ленинград (1923–1927) Формулы супрематизма* Если мир — Материя, то это не значит, что он материален Материал возникает тогда, когда появляет<ся> идея-Мир-без идей, Супрематизм без идей, ни в том, ни <в> другом нет материала. Материализм — сверхъестество,
Из записной книжки 1923–1924 годов*
Из записной книжки 1923–1924 годов* Мир материальный согласно учению идеалистов — искаженная форма мира чистых идей.* * *Материальная вещь своей изменя<емостью> потвержда<ет> {положение}, что она искажение идеи вне изображения материального.* * *Идеальность вещей в себе,
Франс Халс (между 1581 и 1585–1666)
Франс Халс (между 1581 и 1585–1666) Цыганка 1628–1630. Лувр, ПарижТворчество Халса, одного из самых прославленных портретистов XVII столетия, сыграло огромную роль в развитии портретной живописи в Европе. Жизненная правда образов и упрощенная манера наложения красок предвосхитили
Через года и… стили
Через года и… стили Появившись в XVIII столетии на стенах российских зданий, маскароны в частности и декоративная скульптура вообще остаются там и до сегодняшнего дня. Собственно, об этом и разговор в нашей книге. Странствуя, как все сущее, по реке времени, маскароны, однако,
Из писем 1898 года
Из писем 1898 года H. Н. Дубовской — Е. М. Хруслову, 1 января 1898 года:«На Ваш вопрос относительно Николая Александровича Ярошенко могу сообщить Вам утешительные сведения… Вид у него прекрасный — я бы сказал, что такой хороший вид у него редко и раньше бывал; но голос он
26. Лето 1996 года
26. Лето 1996 года 1Осенью вспоминать весну – неловкое занятие. Как вспоминать вчерашние пьяные выходки. Весна прекрасна. Мы все так ее ждали. Казалось, начинается все самое главное… но ничего ведь и не думало начинаться.Это просто такое время года. Мы реагируем на него,
После1886 года
После1886 года Следующие за 1886 годы лишь подчеркнули окончательный распад импрессионизма, зародившегося в мастерской Глейра, „Салоне отверженных", в лесу Фонтенбло, харчевне матушки Антони, в кабачках и за столиками кафе Гербуа.Идеи, сформировавшиеся там, впервые нашли
За два года до триумфа
За два года до триумфа Готовиться к намеченной на 1900-й год Парижской выставке на заводе начали заблаговременно. Заказали проект выставочного павильона молодому петербургскому архитектору Е. Е. Баумгартену. В конце 1898 года он прислал в Касли чертежи и рисунки